Епифаний премудрый. Преподобный сергий радонежский и его ученики. Без даты рождения
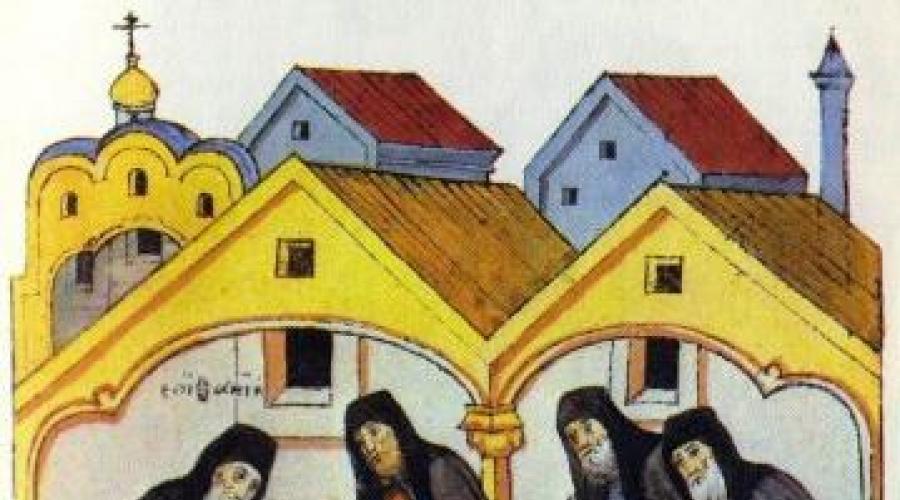
Читайте также
Имена преподобного Сергия Радонежского и святителя Стефана Пермского неразрывно связаны в сознании русских людей во многом благодаря автору их житий - монаху Троицкого монастыря Епифанию Премудрому . Художественный мир его агиографии полон людей, животных, растений, различных явлений природы и того, что было создано самим человеком. Все существующее, по мнению автора, собирается вокруг носителя духовных ценностей, выражающего идеал эпохи. Эта особенность русского средневекового мышления была наглядно воплощена в иконографии, где предельно условно переданные природа и человеческая культура несопоставимо малы и схематичны по сравнению с образом святого, тем внутренним смыслом, той безусловной реальностью, которую он выражает. В изображении Епифания мир целен, его внутренние и внешние смыслы объединены, а возникшая в результате преобразования “дикой” природы красота является зримым проявлением слияния этих двух сфер.
Изображая окружающий мир, Епифаний Премудрый пытается раскрыть его первозданную красоту. Мотив “сотворения пустыни яко града” становится художественным воплощением этого стремления. Для Епифания Премудрого пустынь - это и необжитое, удаленное от селений место, своеобразное царство вольной природы, и некая смысловая “открытость”, пустыня, которая может стать либо благодатным , либо “пустым” местом. Последнее получает отрицательное значение. “Пустое” место - не просто территория, лишенная какого-либо смыслового наполнения, а место, непригодное ни для чего доброго, нуждающееся в освящении и преображении. Не случайно Епифаний Премудрый называет в “Слове о житии и учении отца нашего Стефана, бывшего в Перми епископа” Пермь языческую, “безгодную”, пустым местом. Пустое место - это “земля”, наполненная враждебной идеологией, сфера неверия, “бесовства”.
В “Житии Преподобного и богоносного отца нашего, игумена Сергия, чудотворца” населенная различными зверями Маковецкая возвышенность, которую избирают для уединенной жизни преподобный Сергий и его брат Стефан, представлена как царство дикой природы и прибежище нечистых сил, являющихся Сергию в образе “пустынных страшилищ”. В этом житии бесы - носители темных, враждебных сил - выступают противниками освоения пустынных территорий. Они пытаются смутить подвижника, суля неминуемые невзгоды и лишения, ожидающие его в этом месте. Все “страхи” бесовские обусловлены реальностями окружающего мира, наполнены конкретным бытовым содержанием. Доводы нечистой силы разумны с точки зрения “жизненной логики”: это описание трудностей объективной реальности, это рассказ о лишениях, ожидающих пустынника в глухом месте, вдали от человеческого жилья. В житиях реализованы разные аспекты понятия “пустыня”. Из текстов Епифания следует, что, с одной стороны, это - свободное пространство, ожидающее своего заполнения, а с другой - “пустое”, “гиблое” место, область, подвластная ложным идеям, “земля языческая”. Первое понимание находит свое воплощение прежде всего в “Житии преподобного Сергия Радонежского”, второе - в “Слове о житии Стефана, епископа Пермского”.
В центре внимания Епифания Премудрого находятся два типа религиозного деятеля. Святитель Стефан идет в Пермь и продолжает дело просвещения заволжских иноверцев, а преподобный Сергий выполняет внутреннюю миссию, посвящает себя делу восстановления былого величия русского монашества . В падении уровня иноческой жизни видели современники и причину многочисленных бед, выпавших на долю Руси: непрекращающиеся междоусобицы, голод, эпидемии, зависимость от иноплеменников-иноверцев. Задолго до Епифания Премудрого епископ Серапион Владимирский как о наказании Божием говорил о разорении и опустошении русских земель: “Разрушены божественьныя церкви, осквернены быша ссуди священии и честные кресты и святыя книгы, потоптана быша святая места, святители мечю во ядь быша, плоти преподобных мних птицам на снедь повержени быша, кровь и отець, и братья нашея, аки вода многа, землю напои <…> гради мнози опустели суть, села наша лядиною поростоша, и величьство наше смерися, красота наша погыбе, богатьство наше онемь в користь бысть, труд наш погании наследоваша, земля наша иноплемеником в достояние бысть, в поношение быхом живущим въскраи земля нашея, в посмех быхом врагом нашим, ибо сведохом собе, акы дождь с небеси, гнев Господень! Подвигохом ярость Его на ся и отвратихом велию Его милость - и не дахом призирати на ся милосердныма очима” .
Со времени Маковецкого пустынника изменяется не только форма и направление русской монастырской жизни, но и характер колонизации. Иноки начинают осваивать ранее дикие места и, по словам В. О. Ключевского, монастыри возникают “вдали от городов, в лесной глухой пустыне, ждавшей топора и сохи” .
Для своего подвига будущий Троицкий игумен избирает “чистое” место и здесь создает обитель, которая становится прообразом града Божиего. “Умное делание”, личный труд преподобного Сергия способствовали духовному возрождению народа. Не случайно Троицкий монастырь начинает объединять вокруг себя людей и впоследствии приобретает огромный авторитет в Московском государстве, становится центром духовной жизни Руси. Во время татарского ига происходит надрыв в русском сознании, и неустроенная русская душа тянется к святой обители , пытаясь избавиться от запавшего в нее трагического разлада между тем, что осознавалось как необходимое, должное, и отсутствием, недостижимостью этого в повседневной жизни. В своих агиографических сочинениях Епифаний Премудрый пытается наметить возможные пути преодоления этого надрыва. Агиограф высоко оценивает духовную силу преподобного Сергия Радонежского и святителя Стефана Пермского. Повествуя о них, он показывает своим современникам возможные пути обретения цельности религиозного сознания.
Осмысливая окружающее пространство как результат Творения, человек убеждается, что все сущее способно воплотить в себе добро и призвано участвовать в Божественном совершенстве. Для православного книжника Епифания Премудрого очевидно, что, приобщившись к Высшей истине, люди приступают к изменению мира. Это не насильственное воздействие, а своеобразная попытка раскрыть внутренний смысл, заложенный в окружающем мире. Любовное преобразование - отличительная особенность христианского отношения к природе. Человек - вершина Творения и одновременно часть земного мира , он не может существовать вне “природы вещей”. Возникновение множества монастырей на рубеже XIV–XV веков как бы становится реализацией превращения мира в обширный собор единомышленников, прославляющих Бога и неустанно самосовершенствующихся во имя достижения всеобщей гармонии.
Тема преображения местности в результате строительства церкви или монастыря, которые изменили естественный ландшафт сообразно духовным законам, традиционна для агиографии. Мотив преобразования присутствует уже в одном из первых древнерусских сочинений - в написанном иеромонахом Нестором “Житии преподобного отца нашего Феодосия, игумена Печерского” . “Тъгда бо сий великий Феодосий обрет место чисто, недалече от Печеры суще, и разумев, яко довъльно есть на възгражение манастыря, и разбогатев благодатию Божиею, и оградивъся верою и упованием, испълнив же ся Духа Святаго, начат подвизатися въселити место то. И якоже Богу помагающю ему, в мало время възгради цьрькъв на месте том в имя Святыя и Преславьныя Богородица и Приснодевица Мария, и оградив и постави келие многы, и тъгда преселися от пещеры с братиею на место то <…> И отътоле Божиею благодатию въздрасте место то, и бысть манастырь славьнъ, се же доныне есть Печерьскый наричемъ, иже от святаго отьца нашего Феодосия съставленъ бысть” (жФП. С. 378). Автор жития говорит, что преподобный Феодосий “иже поистине испълънен Духа Святаго <…> населив место множьствъмь чьрьноризьць, иже пусто суще, манастырь славьн сътвори ” (жФП. С. 402). Позднее, развивая эту мысль в своих сочинениях, Епифаний Премудрый скажет, что преподобный Сергий Радонежский “пустыню яко град сътвори” (жСР. С. 298) .
Описывая преображенное место, агиографы обычно упоминали о его благоприятном географическом положении, о решении святого строить именно “здесь” и сообщали о результатах трудов подвижника. Такой композиции, например, строго следует преподобный Нестор, когда повествует в житии преподобного Феодосия Печерского о создании чернецом Никоном монастыря: “Великый же Никон отъиде в остров Тьмутороканьскый, и ту обрет место чисто близь града, седе на нем. И Божиею благодатию въздрасте место то, и цьркъвь Святыя Богородица възгради на нем, и бысть манастырь славьн, иже и доныне есть” (жФП. С. 347). Все происходящее от возникновения замысла до его успешной реализации осмысляется как воплощение воли Бога, побуждающего святого к действию и покровительствующего ему. Именно так понимает Епифаний решение преподобного Сергия избрать для своего подвига Маковецкую “пустыньку”.
Более обширное, развернутое описание местности встречается в “Слове о житии Стефана, епископа Пермского”. Так, рассказывая о посещении Руси апостолом Андреем Первозванным , агиограф пишет: «Аще и в Русской земле был <…> под Киевом стоавша, а града Киева тогда еще не было, но точно бяху посты горы те. Вшедшю ему молитву сотворь, и крест постави, и прорек: “На сем месте, глаголя, будет град велик…”. Ти тако благословив место и отъиде в прочая грады и страны» (жСП. С. 68). Далее наш автор говорит о необходимости и своевременности миссионерской деятельности святителя Стефана, ведь даже Апостол, крестивший множество земель, в том краю не был. Пермский подвижник выполняет то, чего не успел сделать его великий предшественник, продолжает его дело. Включая этот рассказ в житие, агиограф вовлекает в смысловую сферу своего сочинения события мировой истории, расширяет пространственно-временные границы повествования.
У Епифания Премудрого тема преображения местности не только способствует развитию сюжета, но и становится художественным принципом, помогающим реализовать авторский замысел - показать человека, достигшего святости. Такое воплощение одного из устойчивых агиографических мотивов является особенностью его творческой манеры. Развитие образа преображаемого места достигается с помощью фиксирования происходящих изменений, что делает повествование более динамичным.
В “Житии Стефана, епископа Пермского” дается обширная картина изменения целой земли. Автору для создания образа Перми христианской необходим ряд эпизодов. Эти моменты, часто разделенные значительными текстовыми периодами, образуют смысловую цепочку, искусно “нанизываются”, подобно тому, как в Епифаниевом стиле слово переплетается со словом, а фраза с фразой. Начинает агиограф с того, что упоминает о создании в крае зырян некоего “града”: “И так, помалу множашеся стадо Христово и подробну прибываше христиан. Подробну бо, рече, созидается град” (жСП. С. 104). Речь идет об общности людей, объединенных одними помыслами, единой жизнью духа - о “граде духовном”. Далее Епифаний пытается передать этапы преобразования, “переделывания” Пермской земли. Он говорит об увеличении числа церквей, о приобщении к православной традиции новообращенных. “И тако, помагающу Богу, благоволящю же и сдействующу, постави другую церковь святую, добру и чюдну, по образу предиреченному указанному, и в ней иконы и книги устрои. Но и третюю церковь на ином месте. И сице изволися ему: не едину церковь поставити, но многи, понеже бо людье пермьстии новокрещаеми не в едином месте живяху, но сде и онде, ово близу, ови же дале. Тем же подобаше ему розныа церкви на розных местах ставляти, по рекам и по погостам, идеже коейждо прилично, яко сам весть” (жСП. С. 114). Из общего тона повествования следует, что количество возникших на этой новой земле храмов превышает число оставшихся капищ. Возникновение церквей осмысливается автором и как победа над идолами. “И тако убо церкви святыя съзидахуся в Перми, а идолы сокрушахуся” (жСП. С. 114).
Преображение мира отражает изменения, происходящие в жизни пермских жителей. Святитель Стефан, проповедуя в зырянском крае святое Евангелие, приобщил пермских людей к христианству . Движение от Перми языческой с “дикими капищами” к Перми христианской с благолепными церквями осуществляется одновременно с обращением язычников в Православие. Агиограф рассуждает о происходящих переменах. “Бяше видети чюдо в земли той: идеже прежде были храмы идольскиа и кумирници, жертвища и требища идолская, ту церкви святыя сзидахуся и манастыри, и богомолья чиняхуся; кумирская лесть, идолослужение прогнася, а благодать богоразумьа восия, вера христианьская процвете” (жСП. С. 168). Волхв Пам изгоняется, и Пермь полностью переходит под духовное руководство святителя Стефана: святые церкви навсегда вытесняют “храмы идольские”.
В облике преобразившегося края отразились изменения, происшедшие в мировоззрении населяющих его людей. Дикая природа, земля “непроходная” связывалась агиографом с внутренним состоянием жителей пермской земли. Не случайно он называет ее “гладом одержимой” и поясняет, что этот “глад” - голод духовный, голод неведения истины. Преображенная “пустыня” с многочисленными ласкающими взор церквями символизирует пробуждение жизни духа в пермском народе, превращение “гиблого” места в страну, где трудами праведника и по Божией воле, о чем постоянно напоминает Епифаний, воссияла “благодать богоразумения”. Агиограф создает ощущение “обжитости”, “заполненности” людьми сотворенного “яко град” места.
В “Житии Сергия Радонежского” изображение монастыря и его окрестностей проходит через весь текст. Вначале Епифаний Премудрый описывает “пустынь”, на которой остановили свой выбор Сергий и его старший брат Стефан. “<Братья - Т. К .> обходиста по лесом многа места и последи приидоста на едино место пустыни, в чащах леса, имуща и воду. Обышедша же место то и възлюбиста е, паче же Богу наставляющу их. И сотвориша молитву, начаста своима рукама лес сещи, и на раму своею беръвна изнесоша на место” (жСР. С. 294).
Первое относительно развернутое описание Маковца находится в главе “О преставлении родителей святого”, где автор объясняет, какое значение он вкладывает в слово “пустыня”, называя так место уединения преподобного Сергия: “Не бе бо ни прохода, ни приноса ниоткуду же; не бе бо окрест пустыня тоя близ тогда ни сел, ни дворов, ни людей, живущих в них; но окргу места того с все страны все лес, все пустыня” (жСР. С. 296). В следующей главе посетившие Преподобного бесы говорят, что ему лучше покинуть глухую лесную чащу: “Не надейся зде жити <…> Се бо есть, яко же и сам зриши, место пусто, место безгодно и не проходно, с все страны до людей далече, и никто же от человек не присещает зде <…> се бо и зверие мнози плотоядци обретаются в пустыни сей, и влъци тяжции выюще, стадом происходят сюду. Но и беси мнози пакостят зде, и страшилища многа и вся грозная появляются зде, им же несть числа; едма же пусто есть отдавна место сь, купно же и непотребно” (жСР. С. 308). В обоих приведенных отрывках еще не отмечаются какие-либо изменения. Во втором эпизоде усилен “описательный” момент: говорится не только об удаленности пустыни от дорог и жилых мест, но и возможности набегов бесов и диких зверей на келью Сергия. Повествование становится более эмоциональным за счет усиления изобразительности.
Епифаний Премудрый поясняет, чего боялись бесы, почему они так настойчиво пытались угрозами и уговорами “отвратить” преподобного Сергия от избранной ими пустыни, отказаться от уединения. “Хотяше бо диавол прогнати преподобнаго Сергиа от места того, завидя спасению нашему, купно же и бояся, да некако пустое то место въздвигнет Божиею благодатию, и монастырь възградити възмог своим терпением <…> или яко некую населит селитву, и яко некий възградит градець, обитель священную и вселение мнихом съделает в славословие и непрестанное пение Богу. Яко же и бысть благодатию Христовою, и еже и видим днесь: не токмо бо сий великый монастырь, яко лавра иже в Радонеже състави, но и прочая другыя монастыря различныя постави и в них мних множество съвъкупи по отечьскому же обычаю и преданию” (жСР. С. 310). Агиограф выходит за пределы описания локального географического пространства и говорит уже о том, что монастырь, основанный в маковецкой пустыни, способствует распространению христианства, давая начало другим обителям .
Автор житий постоянно повторяет слова о богоизбранности пустыни, на которой должна вырасти обитель. После кончины старца Митрофана преподобный Сергий молит Бога, чтобы Он дал нового “месту тому наставника”. Епифаний Премудрый, следуя православной традиции, объясняет поставление на игуменство преподобного Сергия тем, что Бог, “яко Провидец, проведый будущаа, и хотя въздвигнути и устроити место то и прославити, иного лучша того не обрете, но точно того самого просившаго дарует, ведый, яко может таковое управление управити в славу имени Его святаго” (жСР. С. 322). Преподобный воспринимается как исполнитель высшей воли, наделенный способностью изменять окружающий мир. Он делает это “своими руками” и никогда не пребывает в праздности. В Троицкий монастырь к Преподобному отовсюду приходят “христолюбцы” “любве ради Божие”, число его учеников увеличивается и, как пишет агиограф, “имени его обносиму быти всюду, по странам же и градом” (жСР. С. 338).
Постепенно благодаря трудам Троицкого игумена “монастырь распространяшеся, братиам умножащимся, келиам зиждемым” (жСР. С. 336), и на месте, ранее пустынном, возникает великая обитель, собравшая множество иноков. “Всемцу же тому начало и вина, - пишет Епифаний, - преподобный отец наш Сергий” (жСР. С. 336). Преподобный и его монастырь становятся духовным центром, объединяющим вокруг себя людей . По мысли агиографа, в личности преподобного Сергия наиболее полно воплотился идеал инока. Радонежский преподобный, живущий “по отечьскому обычаю и преданию”, реально утверждает незыблемые принципы любовного служения миру. Монахи и миряне еще при жизни почитают его святым.
Последователи преподобного Сергия стремятся возродить былое величие русского народа, преобразить “потухший” мир, сообщить ему некое внешнее, видимое сияние, сочетающееся с глубоким внутренним смыслом. Не случайно в эпизоде с медведем агиограф сравнивает преподобного с праотцом Адамом. Все духовно живое так же тянется к Троицкому игумену, как все живое первоначально покорялось и сосредоточивалось вокруг первого человека. Преподобный Сергий способен объединять вокруг себя людей. Он - носитель деятельного, любовного отношения к окружающему миру. В XIX веке святитель Филарет (Дроздов), митрополит Московский, размышляя о духе русского монашества, выразил то основное, благодаря чему личность и дело преподобного Сергия волновали и продолжают волновать людей, живущих в самое разное время. “Если он <мир - Т. К .> не постигает тайны духовных благословений, укажем ему на благословения видимые и чувственные. Смотрите, дикая пустыня превращается в цветущую, вековую обитель; безлюдная пустыня дает бытие многолюдному селению; пустынная обитель стоит непоколебимо против устремления врагов, уже низложивших столицу, становится щитом уже уязвленного царства и сокровищницею его спасения, и все сие - от одного пустынножителя!” .
Повествование о “сотворении пустыни яко града” помогает Епифанию Премудрому создать образ Преподобного. Повседневный обязательный труд подвижников, влекущий за собой преобразование окружающего мира, является необходимым условием этого совершенствования. Отказываясь от внешних, “мирских” красот, святые, о которых рассказывает агиограф, создают град Божий на земле. Возвращая людей к евангельскому началу, они изменяют мир, заставляя его просиять внутренним светом, потаенной красотой, слившейся с красотой внешней. Преображенный мир наделен неким внутренним сиянием. Оно же привлекает и поражает воображение пермских язычников, как некогда было с русскими послами, побывавшими в Константинополе и потрясенными пышностью и великолепием православных храмов и богослужения . Когда автор пишет о “сотворении пустыни яко града”, он повествует о внешнем проявлении деятельности преподобного Сергия и святителя Стефана Пермского. Епифаний Премудрый превращает традиционный агиографический мотив в художественный принцип, позволяющий наиболее полно передать свое представление о мире.
Жития называются “Житие преподобного и богоносного отца нашего, игумена Сергия чудотворца” (далее - “Житие Сергия Радонежского” или жСР) и “Слово о житии и учении отца нашего Стефана, бывшего в Перми епископа” (далее - “Слово о житии Стефана, епископа Пермского”, “Житие Стефана Пермского” или жСП). Тексты житий Епифания Премудрого цитируются по следующим изданиям: житие преподобного Сергия - “Памятники литературы Древней Руси: ХIV–середина XV века” (далее - ПЛДР). Вып. 3. М., 1981. С. 256–429, житие святителя Стефана - Святитель Стефан Пермский / Ред. Г. М. Прохоров . СПб., 1995. С. 50–262 (далее - жСП). Вопрос атрибуции списков жития преподобного Сергия Радонежского не рассматривается. Подробно и наиболее, на наш взгляд, убедительно об этом пишет Б. М. Клосс. См. его работы: Рукописная традиция жития Сергия Радонежского // Клосс Б. М. Избранные труды. М., 1998. Т. 1. Житие Сергия Радонежского. Ч. 3. С. 145–170; Епифаний Премудрый // Там же. Ч. 2. Гл. 1. С. 91–128.
Современный исследователь древнерусской книжности Б. М. Клосс считает, что Епифанию Премудрому, кроме “Слова о житии Стефана, епископа Пермского” и частично сохранившегося “Жития преподобного Сергия Радонежского”, принадлежат еще “Похвальное слово преподобному Сергию”, “Слово о житии и преставлении великого князя Димитрия Ивановича”, “Повесть о Темир-Аксаке”, написанные для Свода святителя Фотия “Повесть о Куликовской битве”, “Слово о нашествии Тохтамыша”, “Слово о житии и преставлении Тверского князя Михаила Александровича”, “Поучение по поводу знамения 1402 года”, рассказ о кончине святителя Киприана, митрополита Московского, всея России чудотворца. Подробнее об этом см. Клосс Б. М. Епифаний Премудрый.
Первоначально “пустынью” называли основанный в глухой местности небольшой монастырь или келью уединенного монаха.
Святитель Василий Великий . Творения. Ч. 7. М., 1892. С. 153.
Текст “Жития преподобного отца нашего Феодосия, игумена Печерского” (далее в тексте “Житие Феодосия Печерского”, а в сносках жФП) цитируется по изданию: БЛДР. Т. 1. СПб., 1997. С. 352–432.
Мысль о превращении “пустого”, “пустынного” места в град заставляет вспомнить Нагорную проповедь и слова Спасителя о том, что не может укрыться город, стоящий на верху горы (Мф 5:14). Обращаясь к Своим ученикам, Он говорит: Вы - свет мира <…> Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного (Мф 5:14–16).
Примером такого сообщения о результате трудов святого может быть фрагмент приведенной выше цитаты из преподобного Нестора: “Божиею благодатию въздрасте место то, и бысть манастырь славьнъ, се же доныне есть Печерьскый наричемъ, иже от святаго отьца нашего Феодосия съставленъ бысть” (жФП. С. 378).
Рассказ о посещении Руси апостолом Андреем Первозванным см.: БЛДР: XI–XII века. Т. 1. СПб., 1997. С. 66.
По принципам сокращенных, кратких вариантов описаний мест, на которых возникают новые монастыри, в “Житии Сергия Радонежского” Епифаний Премудрый строит эпизоды, рассказывающие о создании Благовещенской церкви на реке Киржач (жСР. С. 370), Успенской церкви на реке Дубенке (жСР. С. 388), Голутвинском монастыре в Коломне, вотчине благоверного великого князя Димитрия Ивановича (жСР. С. 390). Житие преподобного Сергия, написанное Епифанием Премудрым, сохранилось лишь частично (об этом подробнее см. Клосс Б. М. Рукописная традиция жития Сергия Радонежского). Весь текст восстанавливается лишь по более поздним редакциям Пахомия Логофета, а главки об основании “дочерних” монастырей содержатся во второй части жития. Однако общие принципы описания местности здесь не противоречат тому, что мы видим в начальных главках “Жития преподобного Сергия” и в “Житии Стефана, епископа Пермского”.
См. в “Повести временных лет” эпизод об избрании веры равноапостольным великим князем Владимиром.
Сложности изучения древнерусской литературы общеизвестны. Думается, что здесь нельзя обойтись без привлечения так называемых «смежных» искусств: живописи, иконописи, архитектуры, церковной музыки. Важно сразу помнить, что древнерусская литература и культура не есть собрание «высокохудожественных» памятников (в узком значении - некоего музея исчезнувшей древности), что это то необходимое звено, которое связует прошлое с настоящим, та ответственная информация, которую посредством памятников (от слова память) передают русские люди XII - XV веков русским людям века XXI.
Древнерусская литература, в особенности начального периода, практически анонимна и связь историко-биографических и собственно литературных особенностей произведения достаточно сильна. Читатель воспринимает не просто конкретное художественное произведение, он непременно хочет получить хотя бы небольшую информацию об авторе. Сам ряд дальнейших литературных пристрастий и предпочтений (по крайней мере, на первых порах) строится по авторскому принципу. Жанровые, стилистические, и иные группировки отходят на второй план. Крупная личность почти всегда стоит в центре изучения литературы. Отталкиваясь от фактов биографии такой личности, читатель и начинает входить в мир художественного произведения. Но как быть в случае с древнерусской литературой? Например, споры об авторстве того же «Слова о полку Игореве» идут не одно десятилетие и, судя по всему, несмотря на обилие интересных гипотез (Б. Рыбаков, Д. Лихачев, В. Чивилихин и другие), нам так никогда и не удастся узнать имя творца бессмертного памятника. Однако и здесь литературоведение пытается заменить биографию автора поисками самого автора: этот эвристический и очень продуктивный путь дает возможность оживить восприятие древнерусской литературы. В своих поисках автора читатель ищет, прежде всего, человека, личность. При знакомстве с древнерусской культурой (и литературой как ее составной части), по-видимому, целесообразно использовать не только имена конкретных писателей (Епифания Премудрого, Феофана Грека или даже Ивана Грозного с его перепиской с Курбским), но продемонстрировать, что деятели культуры своей жизнью и творчеством создавали некий единый образ личности. Интересно проследить не просто за биографией того или иного творца, но увидеть в его творчестве, как постепенно складывается система воззрения на человека, как личность творит личность. Обратимся к сопоставительному анализу творчества русского книжника Епифания Премудрого и русского иконописца Андрея Рублева, творчество которых относится к рубежу веков. Эпоха конца XIV - начала XV веков представляет собой определенное культурное единство, проявляющееся во многих областях жизни. Так, например, русская живопись близко сходится с русской литературой. Эта связь особенно отчетливо проявляется там, где они соприкасаются между собой, а именно, в сфере художественного видения мира. На этом уровне закладываются и ярко проявляются самобытные черты и национальные традиции, объединяющие русскую живопись и русскую литературу в единое целое. Установить это нетрудно, найдя общее, что роднит творчество Епифания Премудрого и Андрея Рублева. Что же объединяет двух идолов русского искусства? Прежде всего, XIV век - век национального самосознания - один из самых показательных для эпохи нарождающегося гуманизма. Впервые на передний план холстов и книг выходит человек . Примитивно, схематично авторы начинают толковать о психологических переживаниях своих героев, о внутреннем религиозном развитии святых. Проникновению психологизма, эмоциональности и особой динамичности стиля в русское искусство, а особенно в литературу, способствовали и перемены, произошедшие в обществе. Наблюдается идейный кризис феодальной иерархии. Самостоятельность каждой из ступеней власти была поколеблена. Князь отныне мог перемещать людей по лестнице власти в зависимости от их внутренних качеств и заслуг: на сцену выступали представители будущего дворянства. Все это облегчило появление новых художественных методов в изображении действительности.
Нельзя забывать и о сильном влиянии церкви на мировоззрение людей, продлившееся вплоть до XVIII века, и о тех разнообразных религиозных учениях, нашедших приют на территории тогдашний Руси. Одним из таких учений стало учение исихастов. Мистическое учение, зародившееся в Византии, было характерно для южных славян, в умеренной степени - для России. Исихасты ставили внутреннее над внешним, «безмолвие» над обрядом; проповедовали индивидуальное общение с богом в созерцательной жизни. В России исихазм оказывал воздействие через Афон, а центром новых мистических настроений стал Троице - Сергиев монастырь, выходцами которого были и Епифаний Премудрый и Андрей Рублев. Естественно, что учение исихастов не могло не наложить свой отпечаток на их творчество. Отсюда и «безмолвная» беседа ангелов на рублевской «Троице», и витиеватый «стиль плетения словес» в житиях Епифания Премудрого, где, как и в учениях исихастов, сказался интерес к психологии человека, к его индивидуальным внутренним переживаниям, отразился поиск интимного в религии. История доказала, что многие из тех идеальных философско - религиозных и нравственных принципов, которые прозвучали в речах первых Отцов Церкви, а затем на многие века были забыты, превратились у Премудрого и Рублева в оптимальное для православного мира художественное воплощение. Философская проблематика творчества получила новое звучание, преобразовавшись в лучах прекрасного.
Единство мудрости, человечности и красоты - вот основной мотив и пафос всего творчества Андрея Рублева и Епифания Премудрого, кредо их эстетического сознания.
К искусству обозначенных нами творцов в полной мере подходит понятие софийности , которое подразумевает глубокое ощущение и осознание древними русичами единства искусства, красоты и мудрости; способность выражать художественными средствами основные духовные ценности своего времени, сущностные проблемы бытия в их общечеловеческой значимости. Художественный мир Андрея Рублева и Епифания Премудрого глубок и философичен, но он лишен безысходности и трагизма. Это философия гуманности, добра и красоты, философия всепроникающей гармонии духовного и материального начал, это оптимистическая философия мира одухотворенного, просветленного и преображенного. Важно помнить, что духовная красота в чистом или строго православном смысле открывалась на Руси далеко не многим. Большую же часть православных русичей привлекала не сама по себе духовная красота, а ее отраженность в чувственно воспринимаемых предметах, то есть в красоте видимой и, прежде всего, в красоте словесной и зримой.
Епифаний Премудрый и Андрей Рублев - новаторы, изменившие и окончательно утвердившие новый, чисто русский идеал красоты.
Вчитаемся в сухие строки энциклопедии: «Рублев Андрей (р. ок. 1360-70 - ум. 1427 или 1430), древнерусский живописец. Один из создателей московской школы иконописи. В зрелом возрасте принял монашеский постриг в Троице-Сергиевом монастыре. Творчество Рублева развивалось на почве художественной культуры Московской Руси и обогатилось знакомством с византийской художественной традицией. Мировоззрение Рублева формировалось в атмосфере национального подъема второй половины XIV- нач. XVв. В своих произведениях Рублев, оставаясь в границах средневекового восприятия и воспроизведения действительности, утверждал возвышенное понимание духовной красоты и нравственной силы человека. Эти идеалы воплощены в иконах Звенигородского чина («Спас», «Архангел Михаил», «Апостол Павел» - все рубеж XIV-XV вв.), где строгие плавные контуры, широкая манера письма, светоносный колорит близки к приемам монументальной живописи. Рублевские иконы - «Благовещение», «Рождество Христово», «Сретение», «Крещение», «Воскрешение Лазаря», «Вход в Иерусалим», «Преображение», «Архангел Гавриил», «Апостол Павел», «Звенигородский Спас» - отличаются нежными красочными сочетаниями, чарующей музыкальностью, высокой одухотворенностью. Рублевский Павел исполнен добросердечия, внимания к людям и готовности им помочь. Для фигуры характерна плавная округлость, борода волниста и мягка, а складки облачения выразительны, волнующи и музыкальны. Русский Павел говорит: «Надейтесь на правду! »
Работы Епифания Премудрого - «Житие Сергия Радонежского», «Житие Стефана Пермского» - передают особое отношение к миру, которое проистекает из осознанного или неосознанного убеждения в том, что в мире есть нечто более высокое, чем материальные, вещественные ценности, чем то, что может быть проверено эмпирическим путем, опытом. В образе Сергия Радонежского условность житийной традиции сочетается с яркой индивидуальностью образа. Перед нами муж благостный, мудрый, хоть и скромный, не возносящийся духом, но волевой, сознающий важность своей миссии. Это не только символ, не только идея, запечатленная в образе человека, а сам человек, олицетворяющий идею: «Надейтесь на правду! »
В христианском учении Епифаний Премудрый и Андрей Рублев усмотрели не идею беспощадного наказания грешного человечества, а принципы любви, надежды и всепрощения. «Звенигородский Спас» - это тот идеал Богочеловека, снимающего противоположность неба и земли, духа и плоти, о котором страстно мечтал весь христианский мир, но воплотить который в искусстве удалось только великому русскому иконописцу. Такого Христа не знало даже Византийское искусство. Сергий Радонежский же нашел путь к сердцам не только благодаря чудотворству, а своим личным примером великой соборности в большом и малом: «Благодарим Господа, вот и встретились. Так поблагодарим великих Отцов наших и поклонимся им; и теперь порадуемся или восплачем вместе. Говорят, что радость вдвоем родит много зерен и слез вдвоем, как роса Господня…» Слово Сергия было словом сердца, от которого исходила, по мнению Епифания Премудрого, особая благодать. Наблюдения и любовь к людям дали Сергию умение извлекать из души человека лучшие качества. Преподобный пользовался каждым случаем, чтобы заложить в сознание народа зерно нравственного учения. Таким образом, древнерусское искусство доказывает, что духовная красота обладала самодовлеющей ценностью и не нуждалась в красоте физической. Последняя приобретала особую значимость лишь как знак и указатель на красоту духовную. Вершиной художественного откровения и, пожалуй, вершиной всей древнерусской живописи является «Троица» Андрей Рублева, созданная около 1427 г. и наполненная глубоким поэтическим и философским содержанием. Совершенство художественной формы «Троицы» выражает высший для своего времени нравственный идеал гармонии духа с миром и жизнью. С непередаваемой словами глубиной и силой выразил в ней мастер языком и цвета, линии, формы, сущность философско-религиозного сознания человека Древней Руси, периода расцвета духовной культуры.
Вникая в глубокий смысл иконы, Епифаний Премудрый мог бы сказать о Рублеве, как о Феофане Греке, что он «философ зело хитрый», художник, который выявил то, что вечно: добро, жертвенность, любовь.
«Троица» украшала иконостас Троицкого собора Троицо-Сергиевой лавры - центр почитания святого Сергия Радонежского, еще одной титанической личности русской истории. Именно Радонежский благословил подвиг русского воинства в Куликовской битве, именно он был прозван «сердцеведом» за свои удивительные духовно-пастырские качества. Люди XV века страстно тянулись к Сергию, ища в его наследии мир и согласие от междоусобиц. О жизненном подвиге святого написал известный писатель Епифаний Премудрый «Житие Сергия Радонежского». В рублевской «Троице» акцент сделан на раскрытие философской идеи единства. Этому художник подчинил всю композицию, рисунок, линию. Сергий Радонежский, большой патриот, отлично понимавший, какое зло таили в себе феодальные распри, также сделал целью своей жизни стремление к совершенству, воплотившемся в его глазах, в образах «Троицы». Иконе свойственны особая созерцательность, задумчивость, спокойная и светлая грусть. Но в этой созерцательности нет страха перед божеством. Эта грусть не пессимистична. Это грусть мечты, раздумья, чистой лирики. За внешней мягкостью положений ангелов чувствуется внутренняя сила. Поэтому «Троица», на наш взгляд, не может быть сведена к богословской идее. Как современника замечательных исторических событий, Рублева не могла не привлекать задача наполнения традиционного образа идеями, которыми жило его время, в этом проявился человеческий смысл рублевского шедевра. В старинных источниках говорится, что икона Рублева написана в похвалу отцу Сергию, и это указание помогает понять круг тех идей, которые вдохновляли Рублева. Известно, что Сергий в один из самых важных моментов своей деятельности, благословляя Дмитрия Донского на подвиг, ставил ему в пример то самое самопожертвование, которое Рублев увековечил в «Троице».
В.О. Ключевский, размышляя о святом, задавался знаменательным вопросом: «Какой подвиг так освятил это имя! Надобно припомнить время, когда подвизался Преподобный. Он родился, когда вымирали последние старики, увидевшие свет около времени татарского разгрома Русской земли, и когда уже трудно было найти людей, которые этот разгром помнили. Но во всех русских нервах еще до боли живо было впечатление ужаса, произведенного этим всенародным бедствием и постоянно подновлявшегося многократными нашествиями татар. Это было одно из тех народных бедствий, которые приносят не только материальное, но и нравственное разорение, надолго повергая народ в мертвенное оцепенение, беда грозила превратиться во внутренний хронический недуг; панический ужас одного поколения мог развиться в народную робость, в черту национального характера, и в истории человечества могла бы прибавиться лишняя темная станица, повествующая о том, как нападение азиатского монгола повело к падению великого европейского народа. Могла ли, однако, прибавиться такая страница? Одним из отличительных признаков великого народа служит его способность подниматься на ноги после падения. Как бы ни было тяжко его унижение, но пробьет урочный час, он соберет свои растерянные нравственные силы и воплотит их в одном великом человеке или в нескольких великих людях, которые и выведут его на покинутую им временно прямую историческую дорогу» [Ключевский, 1990: 151].
Чтобы понять эпоху расцвета русской иконописи (а она приходится на XV век) и древнерусской литературы, нужно продумать и в особенности прочувствовать те душевные и духовные переживания, на которые она давала ответ. Торжество той религиозной мысли, которая одинаково одушевляла и русских подвижников, и русских иконописцев того времени, обнаруживается особенно в одном ярком примере. Это - престольная икона Рублева. В иконе выражена основная мысль всего иноческого служения преподобного. О чем говорят эти грациозно склоненные книзу головы трех ангелов и руки, посылающие благословение на землю? Глядя на них, становится очевидным, что они выражают слова первосвященнической молитвы Христовой, где мысль о Святой Троицы сочетается с печалью о томящихся внизу людях. «Я уже не в мире, но они в мире, а Я к тебе иду, Отче Святый! Соблюди их во имя Твое, тех которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы» [Иоанн, 17:11]. Это - та самая мысль, которая руководила св. Сергием, когда он поставил собор св. Троицы в лесной пустыне, где выли волки. Он молился, чтобы этот зверообразный, разделенный ненавистью мир преисполнился той любовью, которая царствует в Предвечном Совете Живоначальной Троицы. Андрей Рублев явил в красках эту молитву, выражавшую и печаль, и надежду.
Икона Рублева истолковывается в научной литературе двояко - это уже хороший повод для столкновения различных точек зрения. Согласно первому подходу, в иконе явлен в виде ангела сам единый Бог, которого «сопровождают» два других ангела. Следовательно, один из ангелов выделяется и идейно, и композиционно (средний). Другой подход: все три ангела и есть единый Бог, но явленный в трех своих ипостасях. Божественное единство здесь нерасторжимо, но и неслиянно. Во времена Андрея Рублева, тема Троицы, воплощавшая идею триединого божества, воспринималась как некий символ времени, символ духовного единства, мира, согласия, взаимной любви и смирения, готовности принести себя в жертву ради общего блага.
В основе сюжета иконы? библейский рассказ об Аврааме и Сарре, принявших странников в виде трех ангелов. Рублев сосредоточил свое внимание не на пророке и его жене (что было характерно до него), а на самих ангелах. Они изображены вокруг евхаристической чаши, которая символизирует новозаветного агнца - Христа (в чаше - голова жертвенного тельца). Жертвенная любовь - вот идейный смысл изображенного. Средний из ангелов - Христос. В задумчивой сосредоточенной тишине, склонив свою голову влево, он благословляет чашу, изъявляя тем самым готовность принять на себя жертву за искупление грехов человеческих. На этот подвиг его вдохновляет Бог Отец (левый ангел), лицо которого выражает глубокую печаль. Дух Святой (первый ангел) присутствует как вечно юное и вдохновенное начало, как утешитель. Для произведений средневекового искусства типична символичность замысла. Рублевская икона имеет, помимо центральных еще и дополнительные композиционные детали: дерево, строения и гору (все они на втором плане - за ангелами). Дерево в иконописной традиции - древо жизни и вечности. Строения («светозарные палаты») - дом Авраама и вместе с тем символ безмолвия, послушания воле Отца (значит, этот символ принадлежит Христу). Гора - символ «восхищения духа». Несколько иное понимание композиции «Троицы» в исследованиях Н.А. Флоренского и некоторых других.
Подводя итоги дискуссиям ученых, М.В. Алпатов пишет: «…Рублеву в своей «Троице» удалось то, чего не удавалось ни одному из его предшественников, - выразить в искусстве то представление о единстве и множественности, о преобладании одного над двумя и о равенстве трех, о спокойствии и о движении, то единство противоположностей, которое в христианское учение пришло из античной философии… В изображении Троицы до Рублева главное внимание сосредоточено было на явлении всесильного божества слабому человеку, на поклонении ему, на почитании его. В «Троице» Рублева Божество не противостоит человеку, в нем самом вскрываются черты, роднящие его с человеком. По замыслу Рублева, три лица Троицы явились на землю не для того, чтобы возвестить патриарху чудесное рождение сына, а для того, чтобы дать людям пример дружеского согласия и самопожертвования. Видимо, увековечен тот момент, когда одно из лиц Божества выражает готовность принести себя в жертву ради спасения человеческого рода» [Алпатов, 1972: 99]. Все эти высказывания доказывают, что «Троица» как культурное явление Древней Руси неисчерпаема в толкованиях и интерпретациях. Полемика ученых об атрибуции того или иного ангела не просто педантичная расстановка всех и вся «по полочкам», но захватывающий поиск истины и красоты. Материал рублевской иконы позволяет предварить разговор о роли канона, Священного Писания, символики в древнерусской литературе, приблизиться к ценностям этой эпохи, понять духовные устремления великих ее личностей. Икона А. Рублева дополняет «Житие Сергия Радонежского» Епифания Премудрого. В «Житии Сергия Радонежского» говорится, что им был построен Троицкий храм собранных им «для единожития» людей, «дабы воззрением на св. Троицу побеждался страх ненавистный розни мира сего». Как это происходило нередко в средние века, выстраданное всеми суровыми жизненными испытаниями стремление к дружному согласию и единению в «Троице» Андрея Рублева и «Житии Сергия Радонежского» Епифания Премудрого предстало взору современника в религиозной оболочке. Но именно этот человеческий смысл произведений способен покорить современного зрителя. Таким образом, выдвижение на первое место чувств, чувственного опыта, внутренней жизни человека и проблемы индивидуализма имели большое значение для литературы и поразительного по силе воздействия изобразительного искусства Древней Руси. А в творчестве Епифания Премудрого и Андрея Рублева воплотилось нечто, что роднит их с лучшими мастерами человечества: глубокий гуманизм, высокий идеал человечности. Культурологический и сопоставительный подходы, используемые нами при анализе произведений разных видов искусств, способствуют углубленному изучению курса литературы в школе. Приведем пример одного из интегрированных уроков по изучению древнерусской литературы в классах среднего звена.
Тема: «Образ Преподобного Сергия Радонежского в литературе и в изобразительном искусстве»
(Интегрированный урок в 8-м классе. Урок проводится как итоговый после изучения по литературе «Жития Сергия Радонежского»)
Мы с вами прочитали «Житие Сергия Радонежского», написанное Епифанием Премудрым. Что характерно для жития как жанра древнерусской литературы?
1-й ученик. Житие повествует о жизни человека, который достиг христианского идеала -- святости. Даёт образцы правильной, христианской жизни. Убеждает, что прожить её может каждый человек. Герои жития -- самые разные люди: и простые крестьяне, и горожане, и князья… Кто, избрав однажды путь спасения, а не смерти, шёл по нему, поверяя все свои дела евангельскими заповедями, стараясь в пути этом уподобиться Христу.
(Учащиеся вспоминают известных им русских святых: Бориса и Глеба, других, кратко пересказывают их жития.)
2-й ученик. Один из самых почитаемых на Руси святых -- Сергий Радонежский, который прославился исключительно мирными подвигами. Он происходил из обедневшего боярского рода, имевшего владения под Ростовом. Известна дата его рождения -- 3 мая 1314 года. В житии говорится, что предзнаменования чудесной судьбы младенца случались ещё до того, как он родился. Когда его мать приходила в храм на молитву, младенец в определённые моменты службы вскрикивал в её чреве. С первых дней жизни ребёнок, которого назвали Варфоломеем, отказывался сосать материнское молоко по постным дням -- средам и пятницам.
В семилетнем возрасте Варфоломея вместе с братьями отдали учиться грамоте, но в отличие от братьев он не сделал никаких успехов. Однажды в поле мальчик увидел старца, молившегося под одиноким дубом. Варфоломей попросил старца помолиться за него, чтобы он научился читать. Старец благословил отрока, и тот порадовал родителей, свободно прочитав перед обедом псалтырь (сборник церковных песнопений, по которому учили грамоте в Древней Руси). Около 1328 года родители мальчика переехали в маленький город Радонеж, недалеко от Москвы. Братья Варфоломея женились, а он, похоронив родителей, решил уйти в монастырь. К этому времени овдовел старший брат Стефан, и они вместе поселились в глухом лесу в двенадцати вёрстах от Радонежа. Однако Стефану стало тяжело жить в столь пустынном месте, и он перешёл в один из московских монастырей. А Варфоломей постригся в монахи под именем Сергия. Постепенно к Сергию стали приходить другие иноки, желавшие послужить Богу своими трудами. Сергий оставил у себя двенадцать человек -- в подражание двенадцати апостолам Христа. Они жили в маленьких избушках-кельях, сами носили воду, рубили дрова, обрабатывали огород и готовили пищу. Преподобный Сергий делал большую часть тяжёлой работы, подавая пример братии. Однажды у него кончился хлеб, и Сергий нанялся прирубить сени к келье одного из монахов. За три дня работы тот дал преподобному краюху хлеба, заплесневевшую настолько, что, когда Сергий приступил к еде, из его рта пошла пыль. Этот эпизод говорит историку не только о смирении Сергия, но и о том, что вначале в обители был принят особножительный устав -- каждый жил на свои средства. Сергий поднял на недосягаемую высоту духовный авторитет своей обители. Он был знаком с византийским богословским учением исихазма -- молчальничества, сутью которого была идея внутреннего самосовершенствования. Очистившись от греховных помыслов и сосредоточившись на божественном, по мнению исихастов, можно было достичь соединения с Богом. Преподобный Сергий, бывший духовником Дмитрия Донского, сыграл немалую роль в подготовке к Куликовской битве. Он помогал объединению русских земель: примирил рязанского князя с московским, а Нижегородское княжество, захотевшее отделиться, отлучил от Церкви. Испугавшись Божьего наказания, нижегородский князь бежал, и его подданные присягнули на верность московскому великому князю. Житие Сергия составлено вскоре после его смерти, в 1392 году, монахом Епифанием, лично знавшим святого.
3-й ученик. Внешность Сергия также не успела к моменту его канонизации изгладиться из памяти современников. В Троице-Сергиевой лавре хранится погребальный покров с гробницы Сергия с вышитым портретом святого. Он считается самым достоверным его изображением. Вышивальщицам удалось передать благородный облик человека потрясающей духовной силы, способного при этом понять и простить людские грехи.
(Демонстрируется портрет.)
Икон с изображением Сергия писали много, и индивидуальные черты сгладились, уступив место иконописному канону. (Учащиеся вспоминают, что такое икона.) Икона (греч. эйкон -- образ, изображение) -- символическое изображение святого или события из священной истории. В православии воспринимается как святой образ -- изображение, в котором за красками, расположенными в соответствии с определённой системой приёмов и средств живописи, присутствует некое таинство. Икона создаётся в соответствии с канонами древнерусской живописи.
(Учащиеся вспоминают эти каноны: обратная перспектива, символическая роль цвета и другие. На доске -- репродукция самой известной иконы -- «Троица» Андрея Рублёва. Ученик рассказывает об истории её создания.)
На доске -- репродукции икон Сергия Радонежского, в том числе и житийная икона. Житийная икона -- икона, запечатлевшая житие и чудеса того или иного святого; по её сторонам и в клеймах изобразительными средствами и краткими текстами представлены главные события подвижнического жития и чудес святого, которому посвящена икона.
Главными отличительными особенностями святого Сергия на иконах стали коричневая монашеская мантия с тёмным платком-парамандом и округлая, средней длины борода. События жизни разворачиваются в боковых клеймах. Только одно из этих событий выделилось в отдельную икону -- явление Сергию Богоматери с апостолами Петром и Иоанном Богословом. Святой беспокоился о дальнейшей судьбе своей обители, и Богоматерь обещала всегда заботиться о монастыре.
(Ученики сравнивают «Житие», написанное Епифанием, с биографической повестью «Преподобный Сергий Радонежский» Б.К. Зайцева.) Мир жития условен, писатель же пытается проникнуть во внутренний мир героя, объяснить его поступки. Так же и картины художников отличаются от икон, написанных строго по канонам.
Сергий Радонежский занимал особое место в жизни и творчестве художника Михаила Нестерова (1862-1942). Художник даже считал, что святой спас его от смерти в младенчестве. Самая значительная картина Нестерова, посвящённая Сергию Радонежскому, «Видение отроку Варфоломею», была написана в 90-е годы XIX века. Она произвела взрыв в художественной среде. Художник предвидел, что этому полотну уготована слава. “Жить буду не я, -- говорил он. -- Жить будет «Отрок Варфоломей»”. В творческом наследии Нестерова эта картина открывает целый цикл произведений, воплощающих русский религиозный идеал. Во время размышлений над будущей картиной Нестеров живёт в окрестностях Троице-Сергиевой лавры, посещает места, связанные с деятельностью святого Сергия.
Нестеров избирает эпизод из жизни святого Сергия, когда благочестивому отроку, посланному отцом на поиски пропавшего стада, было видение. Таинственный старец, к которому отрок, тщетно пытавшийся овладеть грамотой, обратился с молитвой, одарил его чудесным даром премудрости и постижения смысла Священного Писания.
Нестеров выставил «Отрока Варфоломея» на XVIII передвижной выставке. Очевидец триумфа Нестерова вспоминал, что “нельзя даже представить себе впечатление, которое она произвела на всех. Картина действовала ошеломляюще”. Но были и критики картины. Видный идеолог передвижничества Г.Мясоедов доказывал, что золотой венчик вокруг головы святого надо закрасить: “Ведь это же абсурд даже с точки зрения простой перспективы. Допустим, что вокруг головы святого круг золотой. Но ведь вы видите его вокруг лица, повёрнутого к нам анфас? Как же можете видеть его таким же кругом, когда это лицо повернётся к вам в профиль? Венчик тогда тоже будет виден в профиль, то есть в виде вертикальной золотой линии, пересекающей лицо, а вы рисуете его таким же кругом! Если же это не плоский круг, а шаровидное тело, окутывающее голову, то почему же сквозь золото так ясно и отчётливо видна вся голова? Вдумайтесь, и вы увидите, какую написали нелепость”. Столкнулись два века, и каждый говорил на своём языке: упрощённый реализм боролся с символическим видением внутреннего мира человека. Протест вызывали и нимб, и старец. И пейзаж, и бесплотный отрок (по преданию, он писался с “больнушки” -- деревенской больной девочки из-под Троице-Сергиевой лавры). К П.М. Третьякову явилась целая депутация художников с требованием отказаться от приобретения «Варфоломея». Третьяков картину купил, и она вошла в пантеон русского искусства. Окрылённый успехом, живописец решает создать целый картинный цикл, посвящённый Сергию Радонежскому. Триптих -- форма весьма редкая в те годы -- напрямую восходил к череде иконописных клейм, к деисусному ряду иконостаса. В «Трудах преподобного Сергия» (1896-1897) также главенствующую роль играет пейзаж, причём разных времён года. Сергий, с его крестьянской, простонародной натурой, осуждал праздность монахов и сам первый показывал пример смиренного трудолюбия. Здесь Нестеров приблизился к осуществлению своей постоянной мечты -- создать образ совершенного человека, близкого родной земле, человеколюбивого, доброго. В Сергии нет не только ничего напористого, но и ничего вычурного, показного, нарочитого. Он не позирует, а просто живёт среди себе подобных, ничем не выделяясь.
Говоря о другом художнике -- Николае Рерихе, чья жизнь и творчество были связаны не только с Россией, но и с Индией, нужно вспомнить, что одной из самых значительных серий картин, созданных в Индии, были «Учителя Востока». В картине «Тень учителя» Рерих воплотил предание о том, что тени древних мудрецов могут являться людям для напоминания о нравственном долге. Среди полотен, посвящённых великим учителям человечества -- Будде, Магомету, Христу, -- есть и картина с образом святого Сергия Радонежского, которому художник отводил роль спасителя России во всех трагических поворотах её истории. Рерих верил в историческую миссию России. Русская тема не уходила из его творчества; с особой силой она возродилась в годы Отечественной войны. Рерих писал русских святых, князей и былинных героев, словно призывая их на помощь сражавшемуся русскому народу. Опираясь, как когда-то, на традиции древнерусской иконы, он пишет образ святого Сергия. По свидетельству Елены Ивановны Рерих, святой явился художнику незадолго до его кончины.
Образ святого Сергия Радонежского близок и нам, живущим в начале третьего тысячелетия. Таким образом, литература Древней Руси - это не простая совокупность литературных произведений. Сами по себе отдельные произведения еще не создают литературы как единого целого. Произведения составляют литературу, когда они связаны между собой в некое органическое единство, влияют друг на друга, "общаются" друг с другом, входят в единый процесс развития и несут совместно более или менее значительную общественную функцию. Их целостный, глубокий анализ возможен лишь в контексте эпохи, в связи с другими видами искусства, например, иконописью.
ЕПИФАНИЙ ПРЕМУДРЫЙ (2 я пол. XIV-1-я четв. XV в.) - агиограф, эпистолограф, летописец. Судя по его “Слову о житии и учении” Стефана Пермского, можно думать, что, как и Стефан, он учился в ростовском монастыре Григория Богослова, так называемом Затворе.
ЕПИФАНИЙ ПРЕМУДРЫЙ (2 я пол. XIV-1-я четв. XV в.) - агиограф, эпистолограф, летописец. Судя по его “Слову о житии и учении” Стефана Пермского, можно думать, что, как и Стефан, он учился в ростовском монастыре Григория Богослова, так называемом Затворе. Он пишет, что нередко “спирахcя” со Стефаном и бывал ему иногда “досадитель”, и это наводит на мысль, что если Стефан и был старше Е. П., то не намного. Изучал же там Стефан славянский и греческий языки. Огромное в сочинениях Е. П. количество по памяти приведенных, сплетенных друг с другом и с авторской речью цитат и литературных реминисценций показывает, что он прекрасно знал Псалтырь, Новый завет и ряд книг Ветхого завета и был хорошо начитан в святоотеческой и агиографической литературе, а по приводимым им значениям греческих слов видно, что в какой-то мере он выучил и греческий язык. В этом ему могло помочь то, что в Ростове, как мы знаем это из Повести о Петре, царевиче ордынском, церковная служба велась параллельно по-гречески и по-славянски.Из надписанного именем Е. П. Похвального слова Сергию Радонежскому следует, что автор побывал в Константинополе, на Афоне и в Иерусалиме. Как бы в подтверждение этого сохранившееся с именем какого-то “Епифания мниха” “Сказание” говорит о пути из Великого Новгорода к Иерусалиму, но оно совпадает большей частью с текстом “Хождения” некоего Аграфения. Поскольку составленное Е. П. Житие Сергия Радонежского редактировал в XV в Пахомий Серб, не исключено, что слова о путешествиях принадлежат ему. По крайней мере, константинопольского храма cв. Софии Е. П., кажется, сам не видел, ибо он писал о нем в 1415 г. с чужих слов (“Неции поведаша”).
В заглавии Похвального слова Сергию Радонежскому Е. П. назван “учеником его”. Пахомий Серб в послесловии к ЖИТИЮ Сергия говорит сверх того, что Е. П. “много лет, паче же от самого взраста юности”, жил вместе с Троицким игуменом. Известно, что в 1380 г в Сергиевом монастыре грамотный, опытный книжный писец и график по имени Е. П. , наблюдательный и склонный к записям летописного характера человек, написал Стихирарь (ГБЛ, собр Тр.-Серг. лавры, № 22/1999) и сделал в нем ряд содержащих его имя приписок, в том числе о происшествиях 21 сентября 1380 г., тринадцатого дня после Куликовской битвы (приписки изданы И. И. Срезневским).
Написанное как будто под свежим впечатлением от смерти Стефана Пермского в 1396 г сочинение Е. П. о нем - “Слово о житии и учении святого отца нашего Стефана, бывшего в Перми епископа” принято датировать теми же годами, хотя твердых оснований для такой датировки нет Е. П. пишет, что он старательно собирал повсюду сведения о Стефане, составлял собственные воспоминания и взялся за работу над “Словом”, “желанием одержим... и любовью подвизаем”, и это подтверждают очень живая и хроматически богатая тональность произведения и авторская щедрость на разные, казалось бы, необязательные экскурсы (например, о месяце марте, об алфавитах, о развитии греческой азбуки). Местами в его тексте сквозит ирония (над собой, над церковными карьеристами, над волхвом Памом). В свою речь и в речь своих персонажей, в том числе язычников, Е. П. обильно включает библейские выражения. Иногда в тексте Е. П. встречаются как бы пословицы (“Видение бо есть вернейши слышания”, “акы на воду сеяв”). Во вкусе Е. П. игра словами вроде “епископ “посетитель” наречется,- и посетителя посетила смерть”. Он очень внимателен к оттенкам и смысловой, и звуковой стороны слова и иногда, как бы остановленный вдруг каким-то словом или вспыхнувшим чувством, пускается в искусные вариации на тему этого слова и как бы не может остановиться. Используя прием созвучия окончаний, откровенно ритмизуя при этом текст, Е. П. создает в своем повествовании периоды, приближающиеся, на современный взгляд, к стихотворным. Эти панегирические медитации находятся обычно в тех местах, где речь касается чего-то возбуждающего у автора невыразимое обычными словесными средствами чувство вечного. Подобные периоды бывают перенасыщены метафорами, эпитетами, сравнениями, выстраивающимися в длинные цепи.
Яркое литературное произведение, “Слово” о Стефане Пермском является также ценнейшим историческим источником. Наряду со сведениями о личности Стефана Пермского, оно содержит важные материалы этнографического, историко-культурного и исторического характера о тогдашней Перми, о ее взаимоотношениях с Москвой, о политическом кругозоре и эсхатологических представлениях самого автора и его окружения. Примечательно “Слово” и отсутствием в его содержании каких бы то ни было чудес. Главное, на чем сосредоточено внимание Е. П.,-это учеба Стефана, его умственные качества и его труды по созданию пермской азбуки и пермской церкви.
Живя в Москве, Е. П. был знаком с Феофаном Греком, любил беседовать с ним, и тот, как он пишет, “великую к моей худости любовь имеяше”. В 1408 г., во время нашествия Едигея, Е. П. со своими книгами бежал в Тверь. Приютивший его там архимандрит Кирилл спустя шесть лет вспомнил и спросил его письмом о виденных им в Евангелии Е. П. миниатюрах, и в ответ на это в 1415 г. Е. П. написал ему Письмо, из которого единственно и известно о личности и деятельности Феофана Грека. Из этого письма мы знаем и то, что его автор тоже был “изографом”, художником, по крайней мере, книжным графиком.
В 1415 г. Е. П. уже не жил в Москве. Скорее всего, он вернулся в Троице-Сергиев монастырь, так как в 1418 г. закончил требовавшую его присутствия там работу над житием основателя обители Сергия Радонежского.
“Житие Сергия Радонежского” еще больше по объему, чем “Слово” о Стефане Пермском. Как и “Слово” о Стефане, повествование о Сергии состоит из множества главок с собственными заголовками, например: “Начало житию Сергиеву” (здесь речь идет о его рождении), “Яко от Бога дасться ему книжный разумъ, а не от человЬк” (тут говорится о чудесном обретении отроком Варфоломеем - это светское имя Сергия-способности “грамотЬ умЬти”), “О началЬ игуменьства святаго”, “О съставлении общего житиа”, “О побЬдЬ еже на Мамаа и о монастырЬ, иже на ДубенкЬ”, “О посЬщении Богоматере къ святому”, “О преставлении святого”.
По своей стилистике и тональности оно ровное и спокойное. Здесь нет экскурсов “в сторону”, “меньше иронии; почти нет ритмизованных периодов с созвучными окончаниями, гораздо меньше игры со словами и цепочек синонимов, нет “плачей”, есть в конце лишь “Молитва”. Однако же у “Жития” и “Слова” много и общего. Совпадает ряд цитат из Писания, выражений, образов. Сходно критическое отношение к действиям московской администрации на присоединяемых землях. Иногда Е. П. обращает здесь пристальное внимание на чувственно воспринимаемую сторону предметов (см., например, описание хлебов и перечисление роскошных дорогих тканей). Это “Житие” тоже является ценнейшим источником сведений о жизни Московской Руси XIV в. В отличие от “Слова о житии и учении” Стефана Пермского оно содержит описания чудес. В сер. XV в. Пахомий Серб дополнил “Житие” новыми посмертными чудесами, но и в чем-то сократил и перекомпоновал. “Житие” дошло до нас в нескольких редакциях: подвергалось неоднократным переделкам и после Пахомия Серба. В XVI в. оно было включено митрополитом Макарием в ВМЧ.
Помимо заканчивающей “Житие” похвалы Сергию Радонежскому, Е. П. приписывается и вторая похвала Сергию под названием “Слово похвално преподобному игумену Сергию, новому чудотворцу, иже в последних родах в Руси возсиявшему и много исцелениа дарованием от Бога приемшаго”.
Многими чертами близко к “Слову о житии и учении” Стефана Пермского и к “Житию Сергия Радонежского” (но особенно к “Слову”) “Слово о житии князя Дмитрия Ивановича”. Вполне вероятно, таким образом, что в число написанных Е. П. литературных портретов (Стефана Пермского, Сергия Радонежского, Феофана Грека) входит и мемориальный портрет Дмитрия Донского. Не надписал же его Е. П. своим именем, очевидно, потому, что “Слово” предназначалось для летописи, произведения безымянно-коллективно-авторского. В тексте “Слова” о князе сохранилось случайно в него попавшее Письмо автора к заказчику, в котором есть штрихи автопортрета (автор пишет о себе как о человеке, которому суетность и “строптивость” его жизни не дают “глаголати” и “беседовати... якоже хощется”).
Явные стилистические параллели этому “Слову” отмечены в общерусской (Новгородской IV) летописи - в “Повести о нашествии Тохтамыша”, в философско-поэтическом сопровождении Духовной грамоты митрополита Киприана (1406 г.), в сообщениях о болезни и смерти тверского епископа Арсения (1409 г.) (здесь тоже автор играет словом “посетитель”) и в предисловии к рассказу о преставлении тверского князя Михаила Александровича. Замечены также стилистические параллели между надписанными произведениями Е. П. и московской летописью (характеристика Дионисия Суздальского, Повесть о Митяе). А кроме того, обнаружен случай специфического для Е.П. использования слова “посетитель” в грамоте митрополита Фотия, отличающейся по своему стилю от других его грамот и заставляющей вспомнить “плетение словес” Е. П.
Вероятно,таким образом, что причастный к московскому летописанию Е. П. выполнял литературные заказы составителя общерусского летописного свода, какого-то “преподобства” (монаха, очевидно, игумена), написав для него, в частности, “Слово о житии и о преставлении великого князя”. По-видимому, Е. П. же оплакал в общерусской летописи и разоренную при нашествии Тохтамыша Москву, и избитых горожан подобным же образом там же оплакал двух своих выдающихся современников - митрополита Киприана и епископа Арсения Тверского.
Как признанный мастер своего дела, Е. П., по всей видимости, служил двум русским митрополитам - Киприану и Фотию: одному как публицист-летописец, другому как анонимный соавтор одного из его посланий.
Сравнивая произведения Е. П., можно заметить, что манера его письма отражала не только нормативы его времени и свойства его собственной личности, но каждый раз также личности того, на кого был направлен его мысленный взор. Будучи прекрасно образованным и начитанным писателем-профессионалом, имея свои приемы и привычки, Е. П. владел множеством литературных форм и оттенков стиля и мог в своих произведениях быть и бесстрастным фактографом, не позволяющим себе лишнего слова, и изощренным “словоплетом”, впадающим в долгие стихообразные медитации; и ликующим или горестным, и сдержанным или ироничным; и прозрачно-ясным, и прикровенно-многоплановым - благодаря чему и мог дать почувствовать личность того, о ком писал.
Умер Е. П. не позже 1422 г.- времени открытия мощей Сергия Радонежского (об этом он как будто еще не знает).
ЕПИФАНИЙ ПРЕМУДРЫЙ - преподобный, русский монах, агиограф, духовный писатель и мыслитель, автор житий и посланий, раскрывающих мировоззрение Древней Руси, один из первых русских православных писателей и философов.
Жизнеописание
Жил в конце XIV — начале XV века. Сведения о нём извлекаются только из его собственных сочинений. В молодости жил со Стефаном Пермским в Ростове в монастыре Григория Богослова, именуемом «Затвор». Изучил там греческий язык и хорошо усвоил библейские, святоотеческие и агиографические тексты. Возможно, побывал в Константинополе, на Афоне, в Иерусалиме. Вероятно, в 1380 году Епифаний оказался в Троицком монастыре под Москвой в качестве «ученика» уже знаменитого Сергия Радонежского. Занимался книгописной деятельностью. После смерти Сергия в 1392 году Епифаний, видимо, перебрался в Москву на службу к митрополиту Киприану. Близко сошёлся с Феофаном Греком.
В 1408 году во время нападения на Москву хана Едигея, Епифаний бежал в Тверь, где подружился с архимандритом Спасо-Афанасьева монастыря Корнилием, в схиме Кириллом, с которым впоследствии переписывался; в одном из своих посланий он высоко отзывался о мастерстве и работах Феофана Грека, его уме и образованности. В этом письме Епифаний и себя называет «изографом».
В 1410-е годы Епифаний вновь поселился в Троице-Сергиевом монастыре, заняв высокое положение среди братии: «бе духовник в велицей лавре всему братству».
Умер там около 1420 года (не позже 1422) в сане иеромонаха. Б.М. Клосс относит смерть Епифания Премудрого к концу 1418 - 1419 гг. Основанием для этого послужил список погребенных в Троице-Сергиевой лавре, составители которого отметили, что Епифаний умер «около 1420 г.» (Список погребенных в Троицкой Сергиевой лавре от основания оной до 1880 г. М., 1880. С. 11 - 12). Историк соотнес это указание со свидетельством древнейшего пергаменного Троицкого синодика 1575 г. В его начальной части записаны три Епифания, один из которых - несомненно Епифаний Премудрый. Затем в этом источнике отмечено имя княгини Анастасии, супруги князя Константина Дмитриевича, о которой из летописи известно, что она скончалась в октябре 6927 г. [Полное собрание русских летописей. Т. I. Вып. 3. Л., 1928. Стб. 540 (Далее: ПСРЛ)]. При мартовском летоисчислении это дает октябрь 1419 г., при сентябрьском стиле - октябрь 1418 г. Поскольку Епифаний Премудрый скончался ранее княгини Анастасии, его смерть следует отнести ко времени до октября 1418 г. или до октября 1419 г. (Клосс Б.М. Указ. соч. С. 97). Но первая из этих двух дат отпадает по той причине, что Епифаний приступил к написанию «Жития» Сергия только в октябре 1418 г. (в предисловии к нему агиограф сообщает, что после смерти Сергия прошло уже 26 лет, т.е. подразумевается дата 25 сентября 1418 г.). Таким образом выясняется, что Епифаний Премудрый скончался в промежуток между октябрем 1418 г. и октябрем 1419 г.
Мы имеем возможность уточнить дату смерти Епифания, благодаря тому, что его имя упоминается в рукописных святцах в числе «русских святых и вообще особенно богоугодно поживших», но официально не канонизированных Церковью. В частности, по данным архиепископа Сергия (Спасского), оно встречается в составленной в конце XVII - начале XVIII в. книге «Описание о российских святых», неизвестный автор которой расположил памяти русских святых не по месяцам, а по городам и областям Российского царства. Другая рукопись, содержащая имена русских святых, была составлена во второй половине XVII в. в Троице-Сергиевом монастыре и поэтому богата памятями учеников Сергия Радонежского. Изложение в ней идет не по городам, как в первой, а по дням года. Оба этих памятника называют днем памяти Епифания 12 мая. Архиепископ Сергий в своей работе также пользовался выписками из рукописных святцев конца XVII в., присланных ему жителем Ростова Н.А. Кайдаловым. Их оригинал сгорел в пожар 7 мая 1868 г. в Ростове, но выписки, сделанные из них, полны. В них внесено немало неканонизированных русских святых, в том числе и Епифаний Премудрый. Днем памяти, а следовательно и кончины, Епифания в них названо 14 июня. [Сергий (Спасский), архиепископ. Полный месяцеслов Востока. Т. I. М., 1997. С. 257, 380 - 384, Т. III. М., 1997. С. 558].
Учитывая, что Епифаний Премудрый, судя по всему, происходил из Ростова, а также то, что 12 мая отмечается память св. Епифания Кипрского, соименного Епифанию Премудрому, становится понятным, что точная дата кончины агиографа содержится в источнике ростовского происхождения. На основании этого, зная год смерти Епифания, можно с достаточной степенью уверенности полагать, что Епифаний Премудрый скончался 14 июня 1419 г. Правда в последнее время появилось утверждение, что он умер гораздо позже. По мнению В.А. Кучкина, свидетельство об этом находим в «Похвальном слове Сергию Радонежскому», принадлежащему перу Епифания. В нем имеется упоминание о раке мощей преподобного, которую целуют верующие. На взгляд исследо-вателя, эта фраза могла появиться только после 5 июля 1422 г., когда во время «обретения мощей» Сергия его гроб был выкопан из земли, а останки положены в специальную раку. Раки ставились в храме, обычно на возвышении, и делались в форме саркофага, иногда в виде архитектурного сооружения. Отсюда В.А. Кучкин делает два вывода: во-первых, «Слово похвальное Сергию Радонежскому» было написано Епифанием Премудрым после 5 ию-ля 1422 г., а во-вторых, оно появилось не ранее «Жития» Сергия, как полагают в литературе, а позже его. (Кучкин В.А. О времени написания Слова похвального Сергию Радонежскому Епифания Премудрого // От Древней Руси к России нового времени. Сборник статей к 70-летию Анны Леонидовны Хорошкевич. М., 2003. С. 417). Однако, как выяснил тот же В.А. Кучкин, слово «рака» в древности имело несколько значений. Хотя чаще всего оно обозначало «гробницу, сооружение над гробом», встречаются примеры его употребления в значении «гроб» (Там же. С. 416. Ср.: Словарь русского языка XI - XVII вв. Вып. 21. М., 1995. С. 265). Если же обратиться непосредственно к тексту Епифания и не «выдергивать» из него отдельное слово, то становится понятным, что в «Похвальном слове Сергию» агиограф вспоминал события 1392 г., связанные с похоронами преподобного. Многие из знавших троицкого игумена не успели на его погребение и уже после смерти Сергия приходили на его могилу, припадая к его надгробию чтобы отдать ему последние почести (См.: Клосс Б.М. Указ. соч. С. 280 - 281). Но окончательно в ошибочности рассуждений В.А. Кучкина убеждает то, что в средневековье суще-ствовал широко распространенный обычай устанавливать пустые раки над местом захоронения святого или, иными словами, над мощами, находившимися под спудом. При этом зачастую они ставились над гробом свято-го еще задолго до его прославления. Так, над могилой Зосимы Соловецкого (умер в 1478 г., канонизирован в 1547 г.) его ученики поставили гробницу «по третьем же лете успениа святаго» (Мельник А.Г. Гробница святого в пространстве русского храма XVI - начала XVII в. // Восточнохристианские реликвии. М., 2003. С. 533 - 534, 548).
Сочинения
Ему принадлежат «Житие преподобного Сергия», материалы к которому он начал собирать уже через год после смерти преподобного, а кончил написание около 1417—1418 годов, через 26 лет по смерти Сергия. Оно использовано, часто буквально, в «Житии Сергия» архимандрита Никона. В списках XV века это житие встречается очень редко, а большей частью — в переделке Пахомия Серба.
Также написал «Слово похвальное преподобному отцу нашему Сергею» (сохранилось в рукописи XV и XVI веков).
Вскоре после смерти Стефана Пермского в 1396 году Епифаний закончил «Слово о житии и учении святого отца нашего Стефана, бывшаго в Перми епископа». Известно порядка пятидесяти списков XV—XVII веков.
Епифанию приписываются также «Сказание Епифания мниха о пути в святой град Иерусалим», введение к Тверской летописи и письмо тверскому игумену Кириллу.
Благодаря учебникам истории многие из нас знают о прославленных в веках людях, например, о великих полководцах, политиках и учёных. Но, к великому сожалению, школа даёт лишь крохотную толику знаний о тех деятелях, которые пронесли через свою жизнь мудрость и доброту, а также увековечили исторические факты.
Предлагаем исправить это и узнать о поистине великом человеке, который людям набожным и воцерковленным известен как преподобный Епифаний Премудрый (фото неканонизированного святого, к сожалению, за давностью лет не существует). Он - автор биографических текстов о выдающихся людях своего времени, участвовал в летописании значимых событий той эпохи и, вероятнее всего, имел влияние в высшем обществе. Житие Епифания Премудрого, краткое содержание его литературных трудов, которые чудом уцелели до наших дней, описаны в этой статье.
Без даты рождения
Достоверное неизвестно, когда именно родился Епифаний Премудрый. Биография монаха содержит достаточно скудные и порой неточные сведения: жил преподобный Епифаний во второй половине 14 века, поэтому неудивительно, что спустя столько сотен лет после его смерти об этом умнейшем человеке осталось так мало информации. Однако всё же имеются по крупицам собранные факты, которые из разрозненных кусочков складываются в определённую историю жизни монаха Епифания.
Одарённый послушник
Распространенно мнение, что житие Епифания Премудрого началось в Ростове. Свой духовный путь юный Епифаний начал в родном городе, в монастыре Св. Григория Богослова, особенностью которого являлось то, что богослужения там велись на двух языках: церковнославянском и греческом.
Помимо билингвистического уклона монастырь славился великолепной библиотекой, содержащей огромное множество книг, написанных на разных языках. Пытливый ум и неуёмная жажда знаний трудолюбивого послушника привели к тому, что он часами просиживал над фолиантами, изучая различные языки, а также хронографы, лествицу, библейские тексты, историческую византийскую и древнерусскую литературу.
Огромную роль в образовании Епифания сыграло тесное общение со Стефаном Пермским - будущим святителем, служившим при том же монастыре. Начитанность и широкий кругозор - одни из причин того, почему Епифаний был назван Премудрым.
Ветер странствий
Помимо книг Епифаний черпал знания в своих странствиях. Сохранились сведения о том, что монах очень много путешествовал по миру: был в Константинополе, совершил паломничество на гору Афон в Иерусалиме, а также часто наезжал в Москву и в другие русские города и веси. Доказательством путешествия в Иерусалим служит труд «Сказания Епифания мниха о пути в град святой Иерусалим». По всей видимости, знания, полученные монахом в экспедициях, также могут служить ответом на вопрос о том, почему Епифаний был назван Премудрым.

Грамотник Троицкого монастыря
По окончании обучения в монастыре Святого Георгия Богослова житие Епифания Премудрого продолжилось под Москвой. В 1380 году он перевёлся в Троицкой монастырь и поступил к знаменитому на Руси подвижнику - Сергию Радонежскому - в ученики. В этом монастыре Епифаний значился грамотником и вёл активную книгописательскую деятельность. Свидетельством данного факта является то, что в кипе рукописей Сергиево-Троицкой Лавры содержится написанный им «Стихирарь» со множеством приписок и пометок с его именем.
Литература и рисование
В 1392 году, после смерти его наставника и духовного отца Сергия Радонежского, житие Епифания Премудрого претерпевает существенные изменения: он переводится в Москву под руководство митрополита Киприана, где знакомится с художником Феофаном Греком, с которым впоследствии его будут связывать долгие дружеские отношения. Художник и его работы произвели на монаха настолько неизгладимое впечатление и привели в такой неописуемый восторг, что Епифаний и сам начал понемногу рисовать.
Слово о Стефане Пермском

Весной 1396 года скончался благоприятель инока-летописца епископ Стефан Пермский. И спустя некоторое время одержимый желанием поведать миру о деяниях святителя написал Епифаний Премудрый «Житие Стефана Пермского». Это произведение - не подробная биография, а традиционное церковно-поучительное описание всех благодеяний епископа Пермского: Епифаний прославляет Стефана как святого, который создал пермскую азбуку, обратил язычников в христианскую веру, сокрушил идолов и построил христианские церкви на землях
Подвиги Стефана Пермского на христианском поприще Епифаний приравнивает к историческим событиям, ведь помимо превосходных литературных качеств «Житие Стефана Пермского» - это бесценный исторический источник, потому что кроме личности епископа Стефана оно содержит архиважные факты, связанные с этнографией, культурой и историей тех давних времён и событий, происходящих в Перми, о ее связях с Москвой и о политической ситуации в целом. Незаурядно и то, что в указанном литературном произведении отсутствуют какие-либо чудеса.
Современникам довольно трудно даётся чтение трудов Епифания Премудрого. Вот несколько слов, которые часто присутствуют в сказаниях Епифания:
- бе убо родом русин;
- полунощныя, глаголемыя;
- от родителя нарочиту;
- клирик великыя;
- такоже кристианы.
По прошествии времени летописный труд, грамотность и мастерство слова инока высоко оценили учёные мужи. Это ещё одна причина того, почему Епифаний был назван Премудрым.
Бегство в Тверь
В 1408 году случилось страшное: на Москву напал одержимый войной жестокий хан Едигей со своим войском. Житие богобоязненного Епифания Премудрого делает крутой поворот: скромный книгописец бежит в Тверь, не забыв прихватить свои труды. В Твери Епифания приютил архимандрит Спасо-Афанасьевого монастыря Корнилий (в миру - Кирилл).
Монах Епифаний прожил в Твери целых 6 лет, и за эти годы крепко сдружился с Корнилием. Именно Епифаний рассказал архимандриту о творчестве высоко отзываясь о работах художника. Епифаний поведал Кириллу о том, что Феофан расписал около 40 церквей и несколько строений в Константинополе, Кафе, Халкидоне, Москве и Великом Новгороде. В своих письмах к архимандриту Епифаний также называет себя изографом, то есть книжным графиком, и отмечает то, что его рисунки - это лишь копия творчества Феофана Грека.

Родная обитель
В 1414 году Епифаний Премудрый вновь вернулся в родные пенаты - в Троицкий монастырь, который к тому времени стал называться Троицко-Сергиевским (в честь Сергия Радонежского). Несмотря на работу над жизнеописанием Стефана Пермского, а также на длительное существование вдали от родного монастыря, Епифаний продолжает делать записи и документировать факты деяний своего наставника из Григорьевского монастыря, собирая в одно целое сведения очевидцев и свои собственные наблюдения. И в 1418 году написал Епифаний Премудрый «Житие Сергия Радонежского». На это ему понадобилось долгих 20 лет. Для более быстрого написания монаху не хватало сведений и... смелости.

Слово о Сергии Радонежском
«Житие Сергия Радонежского» - ещё более объёмный труд, нежели «Слово о житии и учении святого отца нашего Стефана, бывшого в Перми епископа». Он разнится с первым «Житием» изобилием биографических фактов из жизни Сергия Радонежского, а также отличается более чёткой последовательностью хронологических событий. Особо стоит отметить вписанный в это «Житие» исторический факт, касающийся битвы князя Дмитрия Донского с татарским войском жестокого хана Мамая. Именно Сергий Радонежский благословил князя на этот воинственный поход.
Оба «Жития» - это размышления Епифания Премудрого о сложных судьбах главных героев, об их эмоциях и чувствах. Труды Епифания насыщены сложными эпитетами, витиеватыми фразами, разнообразными синонимами и аллегориями. Сам автор называет своё изложение мыслей не иначе как «словесная паутина».
Вот наиболее часто встречающиеся слова Епифания Премудрого, взятые из «Жития Сергия Радонежского»:
- яко бысть;
- шестых седмицъ;
- четверодесятный день;
- принесоста младенецъ;
- въздающе;
- яко же и приаста;
- купно же;
- иереиви повелевающа.
Возможно, именно такой необычный способ книгописания даёт ответ на вопрос о том, почему Епифаний был назван Премудрым.

Ещё одна известная версия «Жития Сергия Радонежского» в наше время существует благодаря переработке афонского монаха Пахомия Серба, жившего в Троице-Сергиевом монастыре в период с 1440 по 1459 год. Именно он создал новый вариант «Жития» после того как преподобного Сергия Радонежского канонизировали. Пахомий Серб изменил стиль и дополнил труд Епифания Премудрого повествованием об обретении мощей Преподобного, а также описал посмертные чудеса, сотворённые Сергием Радонежским свыше.

Без даты смерти
Так же, как неизвестна дата рождения Епифания Премудрого, не установлена и точная дата его смерти. Разные источники утверждают, что книгописец вознёсся на небеса в промежуток между 1418 и 1419 годами. Предполагаемый месяц кончины - октябрь.
День памяти Епифания Премудрого - 14 июня. На сегодняшний момент он не причислен к то есть не канонизирован. Но, скорее всего, это лишь дело времени...