Общее понятие структурализма и постструктурализма. История этических учений. В чем суть философии структурализма и в чем отличие структурализма от постструктурализма
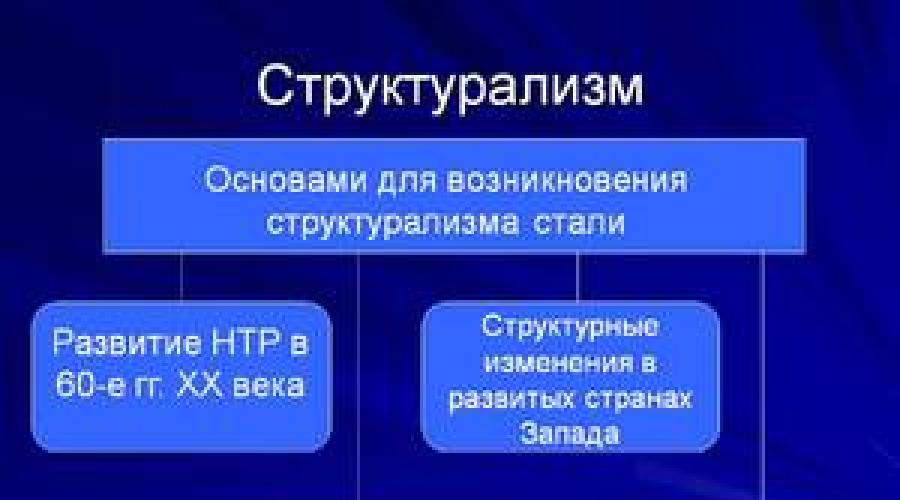
Читайте также
Структурализм как философское направление возник в 50-е гг. во Франции . С его появлением французская совершает радикальный поворот, который многими исследователями сравнивается с поворотом от физики Ньютона к теории относительности и квантовой механике. Речь идет о переоценке ценностей западной философской традиции последних трех столетий (однородность мышления, абсолютное знание, смысл, истина, субъект). Наряду с работами Леви-Стросса (антропология) этот поворот был подготовлен также творчеством других представителей структурализма и постструктурализма — Мишеля Фуко (культурология), Жака Лакана (психоанализ), Ролана Барта (семиология). Структурализм является неоднородным течением, сфера интересов его представителей разнообразна и говорить о нем как о единой философской школе некорректно. Как отмечают сами структуралисты, правильнее вести речь о структуралистской деятельности как “упорядоченной последовательности определенного числа мыслительных операций”.
Клод Леви-Стросс — крупнейший представитель французского структурализма. Он родился в 1908 г., в Брюсселе. Творчество К. Леви-Стросса представлено большим количеством работ (общее число книг, сборников, статей, принадлежащих его перу, приближается к полутора тысячам), среди которых особо стоит выделить следующие: “Элементарные структуры родства” (1949) — работа, которая была темой его докторской диссертации, “Печальные тропики” (1955), “Структурная антропология” (1958), “Неприрученная мысль” (1962), “Мифологики”: В 4 т. (1964-1971), “Путь масок” (1975).
Леви-Стросс обратил внимание на тот факт, что в исследуемых культурах разных народов существуют скрытые основания, упорядочивающие случайные, на первый взгляд, человеческие феномены. Он обнаружил в содержании мифов общие формы, которые он назвал “бессознательными структурами, лежащими в основе каждого социального установления и обычая”. Эти структуры можно обнаружить во всех сферах культуры, понимаемой в тэйлоровском смысле, в виде сложного целого, включающего любые способности и привычки, усвоенные человеком как членом общества.
Специфика культуры такова, подчеркивает французский философ, что когда человек рождается, он приходит, так сказать, на все готовое. Ему остается только ее усвоить. Это хорошо видно на примере языка. Индивиду не нужно выдумывать язык для выражения личного опыта. Язык всегда предшествует. Произнося словами, мы говорим, не столько то, что подсказывает сердце, сколько то, что диктует язык. Как “означающее” он знает все, что я могу сказать; единственное, что он не знает, так это то, о чем пойдет речь в конкретный момент. Что такое разговор? Это “обмен знаками, уже зафиксированными и учтенными в коде обычаев и хороших манер. Если вы говорите собеседнику определенную фразу, то он обязательно ответит другой определенной фразой”.
Согласно Фуко, смысл исходит не от людей, а от отношений, связей между элементами. В этом основная идея структурного подхода.
Г. Ж. Делез полагал, что наличие структуры характеризуется существованием “означающего” и “означаемого”, взаимоотношением между их элементами, на основе соприкосновения. Выяснение особенностей структур культурных образований предоставляет возможность постичь их сущность.
Идея сходства методов структурной лингвистики и этнографии привела Леви-Стросса в работе “Элементарные структуры родства” к гипотезе, что по типу словесных обменов должны быть построены и все остальные типы обменов, например, обмен материальными ценностями, дарами, взаимными услугами.
Еще одним видным представителем структурализма является Мишель-Поль Фуко (1926 — 1984), — французский философ, историк, культуролог. Он применил структуралистский подход на область истории культуры. (Сам он не признавал себя структуралистом, но указывал, что со структурализмом его объединяет “общий враг” в лице “философии субъекта”.)
Все творчество Фуко можно разделить условно на три этапа:
1. 60-е гг. — “археологический ” — охватывает произведения “Безумие и неразумие. История безумия в классическую эпоху” (1961), “Рождение клиники. Археология взгляда медика”(1963), “Слова и вещи. Археология гуманитарных наук” (1966), “Археология знания” (1969). Если история есть наука о прошлом, то “археология” есть наука о прошлом этого прошлого, она — “иной город, погребенный в подземельях старого города... Исчезновение архаичного есть условие появления исторического”. У Фуко все представлено условиями (структурами) и он создает историю условий общественных институтов, частной жизни, видов поведения. Археология призвана реконструировать глубинные структуры, действующие на бессознательном уровне и формирующие познание и опыт.
2. Период — период “генеалогии власти ” — (70-е гг.) Фуко создает “Надзор и наказание” (1975) и “Воля к знанию” (“История сексуальности”. Т. 1. 1976). Если археология вычленяет структуры, то генеалогия призвана показать, каковы движущие силы переходов с одного уровня на другой. Отвечая на этот вопрос, Фуко вводит концепт “власти-знания”.
Наконец, третий период включает “Историю сексуальности ”, второй том “Пользоваться наслаждениями” (1984) и третий том “Забота о себе” (1984). На этом “этическом” этапе Фуко ищет ответ на вопрос, как возможно сопротивление власти, “как и в каких формах возможно такое “свободное” поведение морального субъекта, которое позволяет ему стать “самим собой”, преодолевая заданные коды и стратегии поведения”.
В произведении “Рождение клиники” (1963) Фуко описывается “фантастическая связь знания и страдания”. Он анализирует диалоги врача и больного как форму “оречевления патологии” и исследует “появление клиники как исторического факта новой структуры”. Главное здесь в том способе, которым культура “во всеобщей форме зафиксировала отличие, которое ее ограничивает”.
Работа Фуко “Слова и вещи” посвящена истории Тождественного. Философ вводит понятие “эпистема”, под которой он понимает систему всех отношений, существующих в данную эпоху, “порядок, на основе которого мы мыслим. Он рассматривает соотношение слов и вещей, “означающего” и “означаемого” в европейской культуре и выделяет три эпистемы. Так, в эпоху Возрождения (XVI в.) слова и вещи тождественны. Связь их также реальна, как и то, что они обозначают. Рассмотрим это на примере анализа богатств. Экономическая мысль Ренессанса, например, изображает деньги, монеты, как имеющие реальную ценность, как и товары, которые на них покупают. В классическую эпоху (XVII-XVIII вв.) связь нарушается и трансформируется, слова и вещи начинают соотноситься опосредовано через мышление. Монеты уже не обязательно должны быть из драгоценного металла, золотыми или серебряными, важнее, что на них изображено, т. е. их меновая функция. В современную эпоху (XIX в. — по настоящее время) слова и вещи опосредованы языком, жизнью, трудом, которые изучают такие науки, как лингвистика, биология, политэкономия. Мерой ценности товара становится труд, необходимый для его производства. Подобные трансформации можно проследить на примере “языка”: “язык как вещь среди вещей (Возрождение), язык как прозрачное средство выражения мысли (классический рационализм), язык как самостоятельная сила в современной эпистеме”.
Анализируя ницшеанскую мысль о том, что “воля к власти” есть обратная сторона Логоса, Фуко посчитал правильным и антитезис, что “воля к знанию” суть обратная сторона “воли к власти”. Иллюстрацией ему служит памятное изречение Фрэнсиса Бэкона “Знание — сила”.
Работу этой гипотезы он демонстрирует в книгах “Надзор и наказание” (1975) и “Воля к знанию” (“История сексуальности” Т. 1. 1976). Он утверждает, что знание — не просто атрибут власти, знание есть сама власть, в том смысле, что они неразделимы. Лаконично эта гипотеза звучит: какова власть — таково и знание. В истории Европы французский философ выделяет три периода: Античность — Средневековье — Новое время. В них он обнаруживает три адекватные матрицы генерации знания: мера — осмотр — опрос.
Фуко принадлежит формула: где есть власть, есть и оппозиция. По его мнению, власть не существует без сопротивления, и нельзя говорить о власти и контрвласти как об автономных субстанциях. Более того, Фуко настаивает, что само сопротивление осуществляется, как правило, в категориях той парадигмы власти, которая господствует в конкретную эпоху.
Во многом противоположную тенденцию в эстетике, стремящуюся отгородиться в своем исследовательском методе от социально-мировоззренческой подосновы, представляет структурализм. Как научное направление, объединяющее множество специальных течений и школ, зародившихся в начале XX в., структурализм связывает несовершенство предшествующих эстетических теорий с недостатком их внутренней ясности и рациональности. Отсюда стремление структурализма разработать такой метод исследований в искусстве и культуре, который был бы независимым от тех или иных мировоззрений и беллетризован-пых оценок.
Главное поле исследований структуралистов - текст в широком смысле слова. В качестве текста может рассматриваться как художественное произведение, так и все, что является продуктом культуры, результатом человеческой деятельности. Основные понятия структурализма - структура, знак, значение, элемент, функция, язык. С точки зрения методологии структурализма, обсуждению подлежат вопросы не о природе искусства или сущности человека, ибо все суждения на этот счет расплывчаты и беллетризованы, а вопросы о функциях искусства или человека в контексте культуры.
Такая постановка вопроса имеет давние корни. Еще на рубеже XIX и XX вв. в Петербурге работал профессор Бодуэн де Куртенэ, выдвинувший ряд положений, впоследствии легших в основу структурализма и разработанных применительно к литературе Романом Якобсоном (1896 1982), Яном Мукаржовским (1891 - 1975). Близкие методологические идеи выдвигали в искусствознании Алоис Ригль (1858-1905), в исторической антропологии - Клод Леви-Стросс (1908-2009) и др. Естественно, что одной из отправных точек структурализма в изучении функционирования устойчивых структур текста стало исследование природы мифа. В сфере народного творчества, коллективного фантазирования особенно ярко представлено существование объективных мыслительных форм знания. "Земля мифа круглая, и начинать изучение можно с любого места", - писал Леви-Стросс.
Структурализм рассматривает художественную форму (целостное произведение искусства) как упорядоченность особого типа, свойственную только данному явлению и приводящую в соответствие его внутреннюю и внешнюю меру. Так, обращаясь к изучению живописи, структурализм выделяет для анализа кубические и геометрические композиции, групповые построения, соотношение изображенных фигур между собой и с фоном картины и т.д., истолковывая взаимосвязь всех художественно-выразительных элементов как особо организованную систему. Общие стилевые принципы живописного или архитектурного мышления истолковываются как власть надындивидуального духа в культурных действиях человека.
Разные культуры нередко пользуются одними и теми же образами, типами повествований, сказаний, т.е. одними и теми же знаками, способами их упорядочивания и организации. Следовательно, обобщая схожие типы, можно выявить бессознательно-объективированный характер структуры любого произведения искусства в тот или иной культурно-исторический период. Один из авторитетных и влиятельных структуралистов (а затем и постструктуралистов) Ролан Барт (1915-1980) замечал, что люди разных, а то и противоположных культур вместе внимают одним и тем же рассказам, поэтому исследователь вправе поставить вопрос о константной структуре повествований, их единой модели, ломающей культурные барьеры и сопряженной с самой природой человеческой психики и сознания.
Теоретические подходы структурализма критикуют способы эстетического обоснования, построенные на таких понятиях, как "гений", "выразительность", "искренность", "эмоциональность", "экспрессия" и т.п. Подобные традиционные искусствоведческие и эстетические понятия слишком неустойчивы, размыты, плодят схоластику и затемняют обсуждение реальных проблем, как, например, таких: в силу каких причин возник тот или иной художественно-конструктивный принцип, в чем причина межэпохального существования канонических жанров, повторяющихся приемов организации текста?
"На свете нет человека, который сумел бы построить (породить) то или иное повествование без опоры на имплицитную систему исходных единиц и правил их соединения" .
Следовательно, можно и важно изнутри самого текста попытаться проникнуть в структуру художественного мышления человека, зафиксировать объединяющие его архетипы. Художник может не отдавать себе отчет, почему его образы, знаки, символы соединяются по определенным правилам, но так или иначе, создавая произведение, он интуитивно испытывает власть архетипа, который уже существует до пего и вне его. Одни тексты лишь частично реализуют тот или иной архетип, другие могут существенно отклоняться от него, но тем не менее среди множества произведений обнаруживается тот или иной инвариант.
Понятие инварианта, т.е. некой устойчивой связи элементов, выступающей глубинной основой самых разных произведений, - одно из центральных понятий структурализма. Повествовательный текст, по мысли Барта, строится по модели предложения, хотя и не может быть сведен к сумме предложений. Любой рассказ - это фактически большое предложение. Следовательно, можно выявлять общность композиционного строения рассказа на уровне как макроструктуры, так и микроструктуры (инвариант рассказа и инвариант его отдельных элементов - предложений).
Понять рассказ - не значит проследить его сюжет. Смысл заложен не только в горизонтальных плоскостях, но и в вертикальных. Художественный пафос находится не в конце рассказа, он пронизывает его насквозь. Отсюда столь известный и разработанный прием структурализма, как моделирование разных смысловых уровней текста и их структурный анализ, т.е. стремление в качестве элементов текста уметь выявлять максимально дробные единицы - атомы. Каждый "атом" во взаимодействии со всеми сопредельными осуществляет определенную функцию. Все эти функции необходимо проследить и зафиксировать; любые элементы до мельчайших деталей в произведении имеют свое значение и реализуют его. Произведение искусства не знает шума в том смысле, в котором понятие шума употребляется в теории информации. Речь идет о том, что в искусстве нет ничего случайного, все семантично, каждая, даже мельчайшая деталь имеет значение. В этом отношении искусство реализует принцип системности в его чистом виде. Сумма частей произведения не тождественна ему как целому. Целое произведение обладает природой особого качества, не растворяясь в сумме частей.
Выявляя разные уровни и грани текста, структурализм стремится проследить, чем порождается процесс художественного смыслообразования. Важное достижение структурализма состоит в том, что, препарируя художественный текст и выявляя в нем отдельные элементы, он смог построить символический словарь культуры. Какой смысл несет в себе определенный образ, как этот смысл трансформируется в истории культуры, к какому эффекту приводит взаимодействие разных символов - многие из накоплений структурализма в этой сфере вошли в современную культурологию.
Теоретики структурализма позднего периода почувствовали недостаток средств в анализе того, что можно определить как атмосфера произведения. Действительно, если одно из исходных положений гласит, что целое не равно сумме частей, то как можно зафиксировать это неуловимое дополнительное содержание, излучаемое целостным произведением? Из взаимодействия выразительных элементов рождается художественная аура. Как измерить ее эмоциональность, невыразимость тонких нюансов? Художественный образ не может быть сведен к знаку с соответствующей функцией. Безусловно, образ обладает означающей символикой, но тем не менее он не может быть понят как средство. Художественный образ можно воспринимать и вне значения, как материальный, вещественный объект, которым хочется любоваться, который обладает чувственной притягательностью, т.е. имеет цель в самом себе. Эмоциональное значение знака оказалось трудно просчитать в опоре на структуралистскую методологию.
В целом усилие структурализма освободиться от любой идеологии и исследовать знаково-символический инструментарий культуры в чистом виде не могло не вызвать сочувствия. В этом отношении структурализм воплотил в своей методологии идею "бескорыстной научности", сторонящейся конъюнктуры и занимающейся "реальным" знанием, изучением того, что обладает статусом объективно существующего, а именно: как структурирован язык искусства, чем объяснить формульные повествования, насколько логичен и убедителен язык анализа. Несомненное достоинство структурализма заключается и в прояснении действия специфических превращенных форм социальности, отпечатавшихся в символических, знаковых формах и выступающих масками соответствующих явлений культуры. Наконец, структурализм подтвердил, что символические структурные образования действуют и на бессознательном уровне: "система говорения" поддерживает систему социума, функционирующие в нем устойчивые мифологемы.
Вместе с тем структурализм испытывал трудности перед тем, что можно обозначить как изучение динамической напряженности между структурами, между элементами произведения, как выявление источника самодвижения и эволюции структур. В стремлении схватить едва различимые связи и взаимопереходы элементов структурализм выделял в произведении все новые и новые уровни. Нередко такая практика вела к дурной бесконечности, связи всего со всем, а в итоге эстетическое своеобразие продолжало оставаться неуловимым.
- Барт Р. Введение в структурный анализ повествовательных текстов // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX-XX вв. М., 1987. С. 388.
С сайта Т.Ю.Быстровой http://www.taby27.ru/studentam_aspirantam/aspirant/fi..:
Зарождение и развитие структурализма
Возникновение структурализма относится к рубежу 1950-1960-х гг. Основой для структурализма послужила методология структурного анализа, применявшаяся с 1920-х гг. вначале лишь к разработке проблем лингвистики, литературоведения, психологии.
Начало формирования структуралистической методологии традиционно связывают с выходом в свет книги Ф. де Соссюра "Курс общей лингвистики" (1916г.). На основе усвоения заключенных в ней идей была сформирована структурная лингвистика. Соответствующая методология широко применялась и в литературоведении (анализ сказки, поэзии, малой прозы).
Другим важным источником структурализма стал психоанализ З. Фрейда и К.Г. Юнга. Структурализм заимствовал из него понятие бессознательного как универсального внерефлективного регулятора человеческого поведения.
Также отмечается влияние неопозитивизма и раннего постпозитивизма (разработка логических проблем научного знания и метаязыка науки).
В развитии структурализма выделяют три основных этапа:
становление структурного анализа в конкретно-научных исследованиях (1920-1950-е гг.);
распространение структурного метода в сфере философской проблематики, философское осмысление этого процесса (1950-1960-е гг.);
включение структурализма в широкий сциокультурный и социополитический контекст, критика и самокритика, перерастание структурализма в постструктурализм (1970-1980-е гг.).
Основные понятия и принцип работы структурализма
Структурализм - интеллектуальное движение, для которого характерно стремление к раскрытию моделей, лежащих в основе социальных и культурных явлений.
Центральным базовым понятием структурализма является понятие структуры. Структура (лат. structura) - взаиморасположение и связь составных частей чего-либо; строение, устройство , совокупность устойчивых связей объекта, обеспечивающих его целостность и тождественность самому себе, то есть сохранение основных свойств при различных внешних и внутренних изменениях. В более широком, нестрогом смысле понятие структура употреблялось в научном и философском обиходе достаточно давно (по крайней мере, со средних веков) и выступало в качество одного из способов определения понятия формы (форма как структура, организация содержания).
Основная специфика структурализма заключалась, прежде всего, в том, что его сторонники рассматривали все явления, доступные чувственному восприятию, как "эпифеномены", то есть как внешнее проявление ("манифестацию") внутренних, глубинных и поэтому "неявных" структур, вскрыть которые они и считали своей задачей.
Любая структура, которую в структурализме очень часто определяют как модель, должна отвечать трем необходимым условиям:
целостности - подчинение элементов целому и независимость последнего;
трансформации - упорядоченный переход одной подструктуры (или уровня организации составляющих данную структуру элементов) в другую на основе правил порождения;
саморегулированию - внутреннее функционирование правил в пределах данной системы.
Таким образом, структура выступает не просто в виде устойчивого "скелета" объекта, а как совокупность правил, следуя которым, можно из одного объекта получить второй, третий и так далее. При этом обнаружение единых структурных закономерностей некоторого множества объектов достигается не за счет отбрасывания отличий этих объектов, а путем анализа динамики и механики взаимопревращений зафиксированных различий в качестве конкретных вариантов единого абстрактного инварианта.
Общими для структурализма можно назвать следующие теоретико-методологические положения:
представление о культуре как совокупности знаковых систем и культурных текстов и о культурном творчестве как о символотворчестве;
представление о наличии универсальных инвариантных психических структур, скрытых от сознания, но определяющих механизм реакции человека на весь комплекс воздействий внешней среды (как природной, так и культурной);
представление о культурной динамике как следствии постоянной верификации человеком представлений об окружающем мире и изменения в результате верификации принципов комбинаторики внутри подсознательных структур его психики, но не самих структур;
представление о возможности выявления и научного познания этих структур путем сравнительного, структурного анализа знаковых систем и культурных текстов.
Можно указать следующие основные процедуры структурного метода:
выделение первичного множества объектов ("массива", "корпуса" текстов, если речь идет об объектах культуры), в которых можно предполагать наличие единой структуры; для изменчивых объектов гуманистики это означает, прежде всего, фиксацию их во времени - ограничение сосуществующими объектами и временное отвлечение от их развития (требование методологического примата синхронии над диахронией);
расчленение объектов (текстов) на элементарные сегменты (части), в которых типичные, повторяющиеся отношения связывают разнородные пары элементов; выявление в каждом элементе существенных для данного отношения реляционных свойств;
раскрытие отношений преобразования между сегментами, их систематизация и построение абстрактной структуры путем непосредственного синтезирования или формально-логического и математического моделирования;
выведение из структуры всех теоретически возможных следствий (конкретных вариантов) и проверка их на практике.
Прежде, чем начать более подробный анализ исследований в области структурализма таких знаменитых деятелей, как Р. Барт, К. Леви Стросс, обозначим основные понятия, которыми оперирует структурный метод.
Инвариант - постоянная, неизменная величина, понятие, которая не меняется при различных изменениях, преобразованиях.
Бинарная оппозиция - универсальное средство познания мира, которое особенно активно использовалось и, главное, было осознано как таковое в ХХ веке. Было установлено, что в описании любой картины мира лежат бинарные оппозиции, причем они носят универсальный характер:
жизнь - смерть
счастье - несчастье
правый - левый
хорошее - дурное
близкое - далекое
прошлое - будущее
Левая часть оппозиции считается всегда маркированной положительно, правая - отрицательно.
В современной жизни мы также пользуемся Б. о.: можно - нельзя, положено - не положено, принято - не принято, истинно - ложно, да - нет, утверждение - отрицание, знание - неведение. Важную роль при изучении механизма действия Б. о. играет понятие медиации, то есть посредничества между крайними членами оппозиции.
Синхрония и диахрония (от греч. - через и - время; - одновременный) - понятия, характеризующие историческую последовательность развития явлений в некоторой области действительности (диахрония) и сосуществование, состояние этих явлений в определенный момент времени (синхрония).
Понятия Д. и с. были введены применительно к языку Ф. де Соссюром, резко разграничившим диахроническую и синхроническую лингвистику. Первая из них изучает отношения, которые связывают элементы, следующие друг за другом во времени, не воспринимаемые одним и тем же коллективным сознанием и не образующие систему. Вторая занимается отношениями, которые связывают сосуществующие элементы и образуют систему; эти отношения воспринимаются одним и тем же коллективным сознанием.
С развитием структурализма и распространением его методов на другие области гуманитарного и естественнонаучные знания сфера применения понятий Д. и с. существенно расширилась.
СТРУКТУРАЛИЗМ В ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИИ
В данной главе представляется логичным опираться на работу Р. Барта "Структурализм как деятельность", так как есть все основания предполагать, что дизайн-проектирование можно отнести к структурной деятельности. Далее попробуем доказать этот факт, а также четко выявить элементы структурализма в дизайнерской практике.
1. Дизайн как деятельность, понятие структура в дизайн-проектировании
Design - это сознательные и интуитивные усилия по решению проблемы, которая никогда не может быть единственно правильно решена. В результате получается бесконечное число решений, где одни решения более правильные, чем другие. Правильность решений зависит от вложенного смыслового значения.
Дизайн - специфический ряд проектной деятельности, объединивший художественно-предметное творчество и научно обоснованную инженерную практику в сфере индустриального производства.
Дизайн - это творческий метод, процесс (то есть деятельность) и результат художественно-технического проектирования промышленных изделий, их комплексов и систем, ориентированного на достижение наиболее полного соответствия создаваемых объектов и среды в целом возможностям и потребности человека, как утилитарным, так и эстетическим.
Акцентируем наше внимание на том, что, во-первых, дизайн - это деятельность, мыслительный процесс, процесс сбора информации и воплощение идеи (сам проект).
Теперь обратимся к основному понятию структурализма - структуре. Под структурой в дизайне подразумевается морфологическое строение объекта (формы).
Морфология формы - строение, структура формы изделия, организованная в соответствии с его функцией, материалом и способом изготовления, воплощающими замысел дизайнера.
Начинать анализировать форму в теории дизайна целесообразно именно с её структуры, основы, "скелета". То есть можно сделать вывод, что понятие "структура" играет ведущую роль в дизайне.
2. Дизайнер как структуральный человек, черты структурализма в дизайне
Ещё в предыдущей главе мы выяснили, что структуральный человек это человек, который "определяется не своими идеями и не языками, которые он использует, а характером своего воображения или, лучше сказать, способности воображения, иными словами, тем способом, каким он мысленно переживает структуру".
"Структуральный человек берет действительность, расчленяет ее, а затем воссоединяет расчлененное; на первый взгляд, это кажется пустяком (отчего кое-кто и считает структуралистскую деятельность незначительной, неинтересной, бесполезной и тому подобное). Однако с иной точки зрения оказывается, что этот пустяк имеет решающее значение, ибо в промежутке между этими двумя объектами, или двумя фазами структуралистской деятельности, рождается нечто новое, и это новое есть не что иное, как интеллигибельность в целом".
В процессе трудов над формой, дизайнер делит весь объем работы на определенные этапы (этап анализа ситуации - анализ аналогов, анализ функции, конструкции и так далее и непосредственно сам процесс создания формы). Результатом деятельности является новый объект, несущий в себе образную и функциональную составляющие. Первая из них познается именно интеллигибельно (форма может нравиться или не нравиться, быть красивой или не красивой), вторая - более умопостигаемая функция (удобно - не удобно, понятно - не понятно).
Также данный процесс можно напрямую сравнить с составляющими структурной деятельности - членением и монтажом.
Бинарные оппозиции можно четко отследить, например, на композиционном этапе разработки формы (массив - ажур, ритм - метр, контраст - нюанс и так далее). В целом, бинарной оппозицией можно считать теоретическую и практическую части дизайн-проектирования. Также, представляется возможным увидеть бинарную пару утилитарное - эстетическое в форме (образ - функция).
Что касается бартовского человека-прозводителя смыслов, то дизайнер полностью соответствует этому "требованию". Это можно проследить наиболее ярко в графическом дизайне (создание логотипа, товарного знака - наделение смыслами графического изображения), а также наделение знаковостью каждого элемента формы (человеку должен быть понятен функциональный смысл той или иной составляющей вещи), говоря о проектировании пространства - оно должно нести в себе четко считывающиеся смыслы его функционального назначения, исторического подтекста, этнического и так далее (созданная дизайнером спальня в японском стиле не должна вызывать у потребителя вопрос, где в этом помещении спать, и не гостиная ли это, также не должно быть спорной ситуации в стилевом направлении пространства).
Основная функция дизайн-проектирования - создавать новые вещи, давать новую оболочку одной функции, создавать возможность выбора для потребителя, следовательно, возможность проявления индивидуальности. Вносить новые смыслы в жизнь людей, делать понятным функционирование, казалось бы, непонятных вещей. Дизайн создает гармонию общения человека с окружающим пространством, объединяет в продукте своей деятельности умопостигаемое и чувственное.
Именно также структурализм, как метод познания создает новое, а по мнению Леви-Стросса "побуждает нас к тому, чтобы отвергнуть разрыв между умопостигаемым и чувственным, провозглашенный устаревшими эмпиризмом и механицизмом, и раскрыть тайную гармонию между вечным поиском человечеством значения и миром, где мы появились и продолжаем жить - миром, построенным из очертания, цвета, плотности ткани, вкуса и запаха".
Также Леви-Стросс говорит о воспитательной и созидательной функции структурализма:
Структурализм учит нас больше любить и почитать природу и населяющих ее живых существ, понимая, что растения и животные, как бы скромны они ни были, не только доставляли людям средства к существованию, но с самого начала были источником их самых сильных эстетических чувств, а в интеллектуальном и моральном плане - источником первых и последующих глубоких размышлений".
Проектирование пространственной среды - не только создание вещей. Придавая определенные функциональные и эстетические свойства, особенности вещам и предметной среде, дизайнер формирует или, можно сказать, "проектирует" человека, который будет пользоваться этими вещами и жить в этой среде. Отсюда следует важная воспитательная функция дизайна, его социально-культурная и социально-политическая роль в жизни общества.
"Дизайнер проектирует, планирует то, что еще отсутствует. Он реализует замысел, создавая нечто новое, расширяя пространство культуры. Одновременно происходит самосозидание, помогающее определить человеку себя и свое место в мире".
5,Этика науки.
Этика значимый аспект функционирования науки. Это система моральных принципов и правил поведения члена научного сообщества и любого познающего вообще.
Основные принципы научной этики по Мертону:
1) универсализм - убеждение в том, что изучаемые наукой природные явления повсюду протекают одинаково и что истинность научных утверждений должна оцениваться независимо от возраста, пола, расы, авторитета, титулов и званий тех, кто их формулирует. Требование универсализма предполагает, в частности, что результаты маститого ученого должны подвергаться не менее строгой проверке и критике, чем результаты его молодого коллеги;
2) общность, смысл которой в том, что научное знание должно свободно становиться общим достоянием. Тот, кто его впервые получил, не вправе монопольно владеть им. Публикуя результаты исследования, ученый не только утверждает свой приоритет и выносит полученный результат на суд критики, но и делает его открытым для дальнейшего использования всеми коллегами;
3) бескорыстность - первичным стимулом деятельности ученого является поиск истины, свободный от соображений личной выгоды (обретения славы, получения денежного вознаграждения). Признание и вознаграждение должны рассматриваться как возможное следствие научных достижений, а не как цель, во имя которой проводятся исследования;
4) организованный скептицизм: каждый ученый несет ответственность за оценку доброкачественности того, что сделано его коллегами, и за то, чтобы сама оценка стала достоянием гласности. При этом ученый, опиравшийся в своей работе на неверные данные, заимствованные из работ его коллег, не освобождается от ответственности, коль скоро он сам не проверил точность используемых данных. Из этого требования следует, что в науке нельзя слепо доверяться авторитету предшественников, сколь бы высоким он ни был.
Плюс ныне разрабатываемый нравственный кодекс ученого, включающий:
- гражданскую и нравственную ответственность за открытия;
- неправомерность опасного эксперимента;
- добросовестность (ответственность за качество, запрет плагиата, уважение к чужим достижениям);
- решение споров чисто научными средствами без личной неприязни;
- ответственность за воспитание молодежи в духе гуманизма, демократии и честности.
Энциклопедия эпистемологии и философии науки на сайте http://dic.academic.ru:
ЭТИКА НАУКИ - область философской и внутринаучной рефлексии о моральных аспектах как собственно научной деятельности, включая взаимоотношения внутри научного сообщества, так и взаимоотношений науки и научного сообщества с обществом в целом. Если в 19 в. в науке усматривали источник технического и морального преобразования общества (М. Бертло, Э. Ренан), то после 2-й мировой войны на фоне убедительных свидетельств беспрецедентной мощи научно-технических достижений становится очевидной и осознается неоднозначность и даже опасность как их социальных и человеческих последствий, так и самих процедур и процессов получения новых научных знаний. Вопрос о последствиях использования научно-технических достижений встал особенно остро в связи с созданием оружия массового уничтожения и его первым применением (проведенные США в августе 1945 атомные бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки). Это привело к тому, что объектом самого пристального внимания сообщества физиков, прежде всего ядерщиков, стала моральная оценка как их участия в разработке такого оружия, так и разрушения этического фундамента цивилизации наукой и техникой (А. Эйнштейн, М. Борн и др.). Одновременно с этим миру становится известно о жестоких научных экспериментах над заключенными, которые проводились в нацистских концлагерях; свидетельства этого были представлены на Нюрнбергском трибунале, судившем немецких ученых и врачей. Впоследствии, уже в 60-70-е гг., моральной оценке начинают подвергаться и те многообразные негативные последствия развития науки, которые обнаруживаются во взаимодействии человечества со средой своего обитания. Создаются Общество социальной ответственности ученых (1949), организация “Ученые и инженеры за социальные и политические действия” (1969), проходят Пагоушские конференции.
Главным объектом дискуссий становится вопрос о том, ответственны ли, и если да, то в какой мере, наука и ученые за негативные социальные и человеческие последствия научно технического прогресса. Тем самым ставится под сомнение безусловность и восходящего к просветителям представления о научном знании как о социальном благе, и столь значимой для европейской культуры ценности, как свобода научного поиска (во многих государствах, включая Россию, соответствующая норма закреплена в Конституции). В ходе обсуждения социальной ответственности ученых были выявлены следующие альтернативы:
развитие науки подчинено объективной логике, так что отказ какого-нибудь конкретного ученого от участия в потенциально опасных для человека и общества исследованиях ничего не изменит, либо социально ответственное поведение позволяет, хотя бы в принципе, избежать негативного развития событий и вредных последствий;
негативные эффекты научно-технического прогресса порождаются не собственно научной деятельностью, а теми социальными силами, которые контролируют практическое применение научно-технических достижений, либо наука и ученые могут играть какую-то роль в определении того, как именно используются эти достижения;
результаты фундаментальных исследований принципиально непредсказуемы (в противном случае их проведение не имело бы смысла), так что проблема социальной ответственности имеет смысл лишь в отношении прикладных исследований, либо же при планировании и проведении фундаментальных исследований следует, учитывая уже имеющийся у человечества горький опыт, хотя бы пытаться предвидеть и предотвращать возможные негативные последствия.
Объектом исследований этики науки стали моральные проблемы, касающиеся не только проведения исследований, но и других сторон деятельности ученого - публикации результатов, консультирования и участия в экспертизах и т. п.
Этические нормы и ценности науки. В науке, как и в любой области человеческой деятельности, взаимоотношения между теми, кто в ней занят, и действия каждого из них подчиняются определенной системе этических норм, определяющих, что допустимо, что поощряется, а что считается непозволительным и неприемлемым для ученого в различных ситуациях. Эти нормы возникают и развиваются в ходе развития самой науки, являясь результатом своего рода "исторического отбора", который сохраняет только то, что необходимо науке и обществу на каждом этапе истории.
В нормах научной этики находят свое воплощение, во-первых, общечеловеческие моральные требования и запреты, такие, например, как "не укради", "не лги", приспособленные, разумеется, к особенностям научной деятельности. Скажем, как нечто подобное краже оценивается в науке плагиат, когда человек выдает научные идеи, результаты, полученные кем-либо другим, за свои; ложью считается преднамеренное искажение (фальсификация) данных эксперимента.
Во-вторых, этические нормы науки служат для утверждения и защиты специфических, характерных именно для науки ценностей. Первой среди них является бескорыстный поиск и отстаивание истины. Широко известно, например, изречение Аристотеля: "Платон мне друг, но истина дороже", смысл которого в том, что в стремлении к истине ученый не должен считаться ни со своими симпатиями и антипатиями, ни с какими бы то ни было иными привходящими обстоятельствами. История науки, да и история человечества с благодарностью чтит имена подвижников (таких, как Дж. Бруно), которые не отрекались от своих убеждений перед лицом тяжелейших испытаний и даже самой смерти. За примерами, впрочем, не обязательно углубляться в далекую историю. Достаточно вспомнить слова русского биолога Н. И. Вавилова: "Мы на крест пойдем, а от своих убеждений не откажемся", оправдавшего эти слова собственной трагической судьбой...
В повседневной научной деятельности обычно бывает непросто сразу же оценить полученное знание как истину либо как заблуждение. И это обстоятельство находит отражение в нормах научной этики, которые не требуют, чтобы результат каждого исследования непременно был истинным знанием. Они требуют лишь, чтобы этот результат был новым знанием и так или иначе - логически, экспериментально и пр. - обоснованным. Ответственность за соблюдение такого рода требований лежит на самом ученом, и он не может переадресовать ее кому-нибудь другому. Для того чтобы удовлетворить этим требованиям, он должен: хорошо знать все то, что сделано и делается в его области науки; публикуя результаты своих исследований, четко указывать, на какие исследования предшественников и коллег он опирался, и именно на этом фоне показывать то новое, что открыто и разработано им самим. Кроме того, в публикации ученый должен привести те доказательства и аргументы, с помощью которых он обосновывает полученные им результаты; при этом он обязан дать исчерпывающую информацию, позволяющую провести независимую проверку его результатов.
Нормы научной этики редко формулируются в виде специальных перечней и кодексов - как правило, они передаются молодым исследователям от их учителей и предшественников. Однако известны попытки выявления, описания и анализа этих норм, предпринимаемых главным образом в философии и социологии науки.
См. также:
Каковы новые этические проблемы науки начала XXI века [В.П.Кохановский «Философия науки», с. 274].
В буквальном понимании термин «структурализм» означает «учение о структуре» и представляет собой совокупность возникших в середине двадцатого века холистических подходов. Понятие структуры первоначально применялось в гуманитарных науках (фонологии и лингвистике), а после распространилось и на другие дисциплины.
В промежутке между 1950 и 1970 годами возникло интеллектуальное движение, именуемое структурализмом , сторонники которого выступали за формалистский подход к литературе и провозглашали разрыв с ранее приобретённым знанием. Впоследствии структурализм получил звание собственной философии, главной целью которой стало выявление неизменной при разнообразных трансформациях структуры .
Иными словами, структурализм утверждает, что располагая правилами преобразований, можно свести имеющееся разнообразие к исходным структурам, или же, напротив, получить из исходной структуры огромное количество объектов.
Понятие структурализма
 Эта философия зародилась в 20−50-е годы, и наибольшую популярность снискала во Франции, где оказалась единственно возможной заменой субъективистским и иррационалистическим учениям, отрицавшим объективное научное знание. Структурализм же выступал под лозунгом научной строгости, и воспринимался как философское учение, соответствующее технической и научной революции. Наиболее яркими представителями структурализма были Ролан Барт, Клод Леви-Стросс, Жак Лакан и Мишель Фуко
.
Эта философия зародилась в 20−50-е годы, и наибольшую популярность снискала во Франции, где оказалась единственно возможной заменой субъективистским и иррационалистическим учениям, отрицавшим объективное научное знание. Структурализм же выступал под лозунгом научной строгости, и воспринимался как философское учение, соответствующее технической и научной революции. Наиболее яркими представителями структурализма были Ролан Барт, Клод Леви-Стросс, Жак Лакан и Мишель Фуко
.
По основным параметрам философия структурализма достаточно близка к неопозитивизму, хотя и в корне отличается от последнего: неопозитивизм воспринимает язык прежде всего в качестве изучаемого объекта, тогда как взгляды структурализма неизмеримо выше - он стремится подняться до глобальных обобщений, проявляет интерес к абстракциям, стремится выйти за рамки узкого эмпиризма и усиливает тенденцию к прогрессирующей теоретичности.

Стоит отметить, что структурализм как научный метод исследования сложился задолго до возникновения философии структурализма, и назывался методом структурного анализа. Согласно этому методу при исследовании отдельных элементов целого следует мысленно отвлекаться от содержательной (природной) их специфики, принимая во внимание только свойства, связывающие одни объекты с другими (так называемые реляционные свойства). В целом структурный анализ предполагает абстрагирование от взаимодействия различных элементов единой системы в различные промежутки времени (диахрония) и сосредоточение на внутренних взаимодействиях, происходящих в тот же период времени (синхрония).
В период становления философского структурализма французские адепты стали применять метод структурного анализа и на более сложных культурных феноменах. утверждал, что любую культуру можно рассматривать как совокупность символических систем, к коим в первую очередь относятся искусство, наука, язык и религия.
Как развивался структурализм
В становлении метода структурного анализа принято выделять следующие этапы:
- Становление в языкознании в 20−50-х годах ХХ века. На этой стадии основной целью было стремление сконцентрироваться на структурных компонентах языка, освободив лингвистику от историзма и психологизма.
- Распространение структурализма на иные области познания, например, антропологию.
- Переход к постструктурализму, включение метода в более широкий контекст с последующим его размыванием.
Метод структурного анализа
Структурный анализ объекта обычно происходит согласно следующему плану:
- Подтверждение целостности объекта, относительно которого выдвигается предположение, что входящие в него элементы представляют собой единую структуру.
- Примат синхронии составляющих над диахронией.
- Определение неизменных отношений, которые связывают отдельные компоненты в целое, выявление в каждом из них свойств и отношений, постоянных для целого объекта.
- Раскрытие между элементами механизма преобразования.
- Выведение путём теоретического моделирования всех возможных последствий структуры.
Зарекомендовав себя весьма продуктивным в гуманитарных науках методом, структурализм в итоге стал популярной философской концепцией, которая применялась в исследовании структур мышления, языка, психики, познания и человеческих действий. Любое явление, включая историю, культуру и современное общество, стремились изучить исходя из данной философии. Благодаря структурализму были выявлены так называемые архетипы человека, то есть ментальные структуры, определяющие его отношение к миру и характеризующие уровень психического развития.
Существует мнение, согласно которому структурализм является не философией, а научной методикой с комплексом собственных мировоззренческих представлений . В западной философии метод структурного исследования имеет глубокие корни и прослеживается вплоть до трудов Аристотеля и Платона. Для этой концепции были характерны общность методологии и её ясность, остающиеся очевидными даже в период постструктурализма.
 Основателем философии структурализма считается Клод Леви-Стросс
, французский философ и социолог. В его работе «Структурная антропология» проводилось структурное социально-философское исследование типов общественного сознания и отношений между индивидами, и были заложены основы для новой концепции, изучающей структуры языка, речи и текстов. Труды Леви-Стросса отражают широкий диапазон его познаний в гуманитарных и естественных науках.
Основателем философии структурализма считается Клод Леви-Стросс
, французский философ и социолог. В его работе «Структурная антропология» проводилось структурное социально-философское исследование типов общественного сознания и отношений между индивидами, и были заложены основы для новой концепции, изучающей структуры языка, речи и текстов. Труды Леви-Стросса отражают широкий диапазон его познаний в гуманитарных и естественных науках.
Леви-Стросс придавал немалое значение вероятности использования математического моделирования применительно к материалам антропологии и этнографии. Вместе с математиками учёный разработал модели, дающие представление о системах родства в первобытном обществе.
 Учёный полагал, что язык может подвергаться научному исследованию, которое объясняет принцип его формирования и рассматривает направления дальнейшего развития. К примеру, Леви-Стросс подметил, что лингвистика позволила дать формулировку необходимых общественных связей и провести научное исследование феноменов человека. А фонология, избрав основой понятие системы и анализ между терминами, приблизилась к подсознательной инфраструктуре. При этом исследователь пытался продемонстрировать значимость для всей истории человечества (начиная с первобытно-общинного строя и заканчивая современным обществом) её искусства, культуры и социальных отношений.
Учёный полагал, что язык может подвергаться научному исследованию, которое объясняет принцип его формирования и рассматривает направления дальнейшего развития. К примеру, Леви-Стросс подметил, что лингвистика позволила дать формулировку необходимых общественных связей и провести научное исследование феноменов человека. А фонология, избрав основой понятие системы и анализ между терминами, приблизилась к подсознательной инфраструктуре. При этом исследователь пытался продемонстрировать значимость для всей истории человечества (начиная с первобытно-общинного строя и заканчивая современным обществом) её искусства, культуры и социальных отношений.
В основу лингвистической структурной теории Леви-Стросса лёг психоанализ, главные постулаты которого были заимствованы из работ Юнга . При этом в своей теории учёный воспроизводил действие «коллективного бессознательного» по Юнгу и «подсознательного"/"бессознательного» по Фрейду. Для исследователя подсознание выглядит как некий персональный словарь, в который каждый заносит лексику собственной индивидуальности. А бессознательное этот словарь организует и трансформирует в язык, понятный нам самим и окружающим нас людям. Иными словами, бессознательное является матрицей для остальных структур.
По мнению Леви-Стросса, ни в истории, ни вне её нет сколько-нибудь выраженного смысла - по сути, в ней господствуют бессознательные структуры, а декларируемые цели являются просто-напросто иллюзией.
Согласно теории учёного, основное внимание должно привлекаться к способам, посредством которых биологическое кровное родство заменяется родством социального порядка . Брачные и родственные связи выглядят для Леви-Стросса чем-то вроде системы особенного языка, которая проистекает из действия определённых общих законов и обеспечивает общение между индивидами и их группами.
Теория смысла
Отталкиваясь от структурно-системного подхода, представители структурализма разработали так называемую теорию смысла - то есть отрицание первичности смысла, который, согласно структурализму, должен логично проистекать из системы, формы и структуры . Такой подход оказался весьма эффективен в исследовании мифов, религии, фольклора, языка и кровнородственных отношений, которые по природе своей имеют чёткую организацию и характеризуются преобладанием синхронии над диахронией.
 Соссюр отмечал необыкновенную устойчивость языка к каким бы то ни было инновациям, делая вывод, что революцию в языке провести не представляется возможным. Якобсон замечал, что в фольклоре присутствуют самые стереотипные формы поэзии, которые годятся для структурного анализа.
Соссюр отмечал необыкновенную устойчивость языка к каким бы то ни было инновациям, делая вывод, что революцию в языке провести не представляется возможным. Якобсон замечал, что в фольклоре присутствуют самые стереотипные формы поэзии, которые годятся для структурного анализа.
А вот в музыке, кино и живописи выделение собственных устойчивых значений оказалось делом непростым, что дало основание У. Эко предположить, что «нелингвистический код коммуникации не должен с необходимостью строиться на модели языка». Именно таким подходом стали впоследствии руководствоваться современные структурно-семиотические исследования.
Структурализм - магистральное направление семиотики, не утратившее своего значения до сих пор, несмотря на поспешные декларации постструктуралистов и постмодернистов о смене научной парадигмы. Предшественником отечественного структурализма в XIX в. является А. А. Потебня - русский гумбольдтианец, совершивший теоретическое разведение индивидуального и социального аспектов языка (в последнем совершается единообразное оформление, делающее возможным социальное использование языка), разрабатывавший проблемы эстетической и поэтической функций языка, теорию поэтического образа.
Импульс развитию структурализма придала женевская школа Ф. де Соссюра с его программой семиотических исследований языка, с новой моделью знака, принципиальным различением двух реальностей: языка и речи. Структурализм сохранил как "наследственную черту" внимание прежде всего к словесным, вербальным текстам, хотя его методы применимы ко всем знаковым системам в принципе.
В первой половине XX в. можно выделить два крупных исследовательских направления структурализма: русский формализм и пражскую школу.
Пражский кружок представлен в первую очередь следующими именами: В. Матезиус, Я. Мукаржовский, Б. Трика, Б. Гавранек, Й. Вахек, Вл. Скаличка, Й. Коржинек, П. Трост, С. О. Карцевский. Данная структуралистская школа сформировалась под влиянием прежде всего идей Соссюра, имела единомышленников из числа русских ученых (Р. О. Якобсон, Ю. Н. Тынянов, Г. О. Винокур, Б. В. Томашевский, Б. М. Эйхенбаум). Для нее характерны: представления о языке как системе, выделение социальных аспектов языка (цель как категория языка), обращение внимания на текст и его исследование, теория оппозиций и дифференциальных признаков элементов языковой структуры, но без сведения их к чистому набору дифференциальных признаков, как в копенгагенской глоссематике, теория стиля, речевой нормы и нормативистской деятельности (пражцы фактически пришли к отрицанию абсолютной нормы, утверждению ее социоконвенциональной природы), теория эстетической функции, поэтического языка. В России родственные идеи вынашивала "русская формальная школа", представленная прежде всего Обществом изучения поэтического языка (ОПОЯЗ). Обе указанные школы сосредоточили свое внимание в основном на исследовании вербальных текстов, хотя выявленные ими закономерности могут быть экстраполированы и на иные знаковые системы. Само название работы Ю. Тынянова "Как сделана "шинель" Гоголя" переносит акценты на выяснение объективной структуры текста, оставляя за гранью исследования непроверяемое, служащее предметом домыслов, в том числе и "психологию героев" (уже потому, что, будучи не людьми, а условными единицами текста, человеческой психологией они обладать не могут и перенесение на них черт психики живого человека непозволительно, это напоминало бы убеждение ребенка, что кукла живая, так как имеет общие черты с человеком).
В. Б. Шкловский фактически был главой формальной школы. Он развивал теорию самодостаточности художественного слова - или, как предпочитали говорить сами "формалисты", - художественной формы слова ("самовитое слово", особое внимание уделялось при этом словотворчеству футуристов). Шкловский противопоставил поэтический и обыденный, практический языки, показав глубокие функциональные различия между ними, обусловленные не только разницей целей, но и особенностями функционирования. Ему принадлежит фундаментальное, программное для формальной школы понятие остранения, т.е. особого текстового феномена, который позволяет нарушить "автоматизацию" восприятия и текста, и той реальности, к которой текст относится (последнее особенно важно для текстов реалистического типа) с помощью семантического сдвига; "деавтоматизация" становилась одной из основных тенденций искусства, обеспечивающих новизну и нетривиальность видения и вещи, и мира. В области творческого процесса Шкловский отдавал предпочтение процессу создания над результатом творчества. Эстетика понималась Шкловским как исследование словесных составляющих - т.е. налицо творческая программа структурно-семиотической эстетики. Шкловскому принадлежит теория различения сюжета и фабулы, кажущаяся в настоящее время чем-то простейшим и самим собою разумеющимся, но в тот момент бывшей важным достижением структурализма (о теории сюжета и фабулы будет писать также Л. С. Выготский). Занимался он и теорией невербальных и синтетических искусств. Все исследования Шкловского показывают его научные приоритеты: исследование знаковых систем с позиций приоритетного учета их структурного характера и структурных особенностей. Шкловский тяготел к изолированному исследованию текстов с вынесением за скобки культурно-исторических реалий их создания, сосредоточенность на которых подменяет понимание текста знанием второстепенных, эпифеноменальных (только косвенно относящихся к тексту) "утензилий" - по ироничному выражению Г. Г. Шпета.
Даже позднее, когда Шкловский декларировал использование социологических методов при исследовании произведения, он все же склонялся к примату внутренней организации произведения искусства, текста.
Ю. Н. Тынянов подобно Шкловскому исследовал так называемый литературный быт, сферу "стершегося", "рудиментарного автоматизированного искусства". Тынянова больше, чем Шкловского, интересовали исторические, диахронные законы развития искусства. Он ввел понятие динамики, ставшее ключевым для его исследовательского метода, - склонность искусства к непрестанному восстановлению стершейся, угасшей формы (что может происходить непрерывно или в виде скачков). Закономерности развития обусловлены двумя родами факторов: внутренними (внутриструктурными) и внешними, куда помимо чисто социальных факторов входят отношения с текстами иных родов. Фактически речь идет о взаимодействии текстов в семиосистеме и о разнообразных текстовых связях.
В. Я. Пропп, работая над эмпирическим материалом русских волшебных сказок, впервые с употреблением точных методов выявил структурный инвариант текста, обладающий матричными и порождающими (генеративными) функциями, заложив таким образом основу русского структурализма XX в. как научно состоятельной исследовательской школы. Тексты сказок были вполне репрезентативными, но в то же время относительно простыми для исследования, пребывавшего еще в стадии становления. Константами оказались и количество ключевых персонажей, и их функции, взаимоотношения друг с другом, сюжетные узлы. Пропуск того или иного элемента структуры в конкретном тексте тоже подчинялся определенным правилам. Структуралистский метод мог быть распространен не только на иные виды литературы (в том числе весьма сложные), но и на любой текст как семиотическое явление. Единообразие структур Пропп пытался объяснить посредством привлечения мифа (фактически приближаясь к теории архетипа). Исследования Проппа внесли также вклад и в разработку семиотики карнавала и карнавальности в искусстве.
Б. М. Эйхенбаум, сосредоточивший свои интересы на исследовании литературных текстов, пытался выявить законы развития литературы. Он отвергал дискретность литературного процесса - традиции литературного слова соединяются друг с другом сложно и неединообразно. Исследуя эстетический факт, Эйхенбаум фактически применяет феноменологическую редукцию, утверждая, что для понимания этого факта не имеют значения ни обстоятельства появления, ни какие-либо привходящего рода факты, относящиеся к личности автора. В творческом процессе происходит освобождение внутренних творческих возможностей (отсюда - "заумная литература", игра в искусстве, разного рода непонятности и семантические трудности).
Деятельность обеих указанных школ была прервана в силу привходящих обстоятельств.
Выполнение их творческой программы продолжила Тартуско-московская школа (Ю. М. Лотман, Б. Н. и В. Н. Успенские, 3. Г. Минц, И. А. Чернов, Ю. А. трейдер, В. Топоров, Вяч. Вс. Иванов, В. М. Живов, П. Г. Богатырев, Б. М. Гаспаров). Деятельность этой школы (датой возникновения которой следует считать 1962 г., а 1964 - началом выхода эпохального серийного издания, "Трудов по знаковым системам") является расцветом отечественного структурализма. Строя модель культуры как семиосферы, Лотман и его последователи анализировали самые разные артефакты искусства, не ограничиваясь лишь искусством слова, хотя первоначально преимущественным объектом изучения оказывалось именно оно, причем рассматриваемое с точки зрения классической современной лингвистики. Знание и анализ языка любого произведения искусства так же необходимы для его понимания, как знание вербального языка для прочтения книги, на котором она написана; "понятность" таких искусств, как живопись или кинематограф, мнимая. Искусство - прежде всего феномен структурный. Кроме того, в нем выделяется когнитивный, познавательный момент, организующий разнообразные виды культурной коммуникации, в которой артефакты и их комплексы выступают в качестве текстов. Лотман склонялся к мнению, что произведение искусства является носителем и передатчиком особого рода информации (см.: "Информационная эстетика"). Текст входит в пространство коммуникации даже независимо от намерений автора. Любое искусство создано при помощи языка, а язык является моделирующей системой. Для акцентирования особого статуса языка искусства (подобно русским формалистам и пражским структуралистам) делается уточнение - система вторичная, т.е. возникающая в порядке усложнения уже имеющейся системы, уже наличествующего языка культуры. Коммуникативные процессы лотмановская школа предпочитает описывать как процессы информационные, хотя информация может пониматься здесь весьма нетривиально. Искусство отличается от иных видов познания тем, что воссоздает заново действительность при помощи имеющегося в распоряжении языка. Центром эстетического анализа, таким образом, становится текст и его простейший компонент - знак. Периодически встречающиеся у представителей лотмановской школы пассажи об отражающей функции искусства являются обычно только данью нормативной для своей эпохи научной фразеологии.
Искусство, выполняя одновременно две функции: более простую - познания и более сложную - информации, определяет двойную функцию художественного текста - моделирующую и знаковую. В семиотическом аспекте "художественный текст - действительность" искусство выступает как средство познания, в аспекте "текст - читатель" - как средство передачи информации. Отсюда - целая программа эстетических исследований в семиотической парадигме. Для тартуского структурализма было характерным тяготение к пантскстуализму. При описании функционирования художественного текста выделяется феномен своеобразного "укрупнения" текста. С точки зрения ортодоксальной лингвистической семиотики текст является комплексом знаков, выстроенных по законам синтактики. В художественном тексте информацию передает весь текст целиком, в его тотальности, он становится единым знаком; а то, что прежде было самостоятельными знаками (например, слова), превращается в элемент глобального текста-знака. В невербальных знаковых системах изолированное изучение плана выражения и плана содержания знака невозможно. Уже здесь мы можем видеть отход тартуской семиотики от вербоцентризма. Искусство никогда не "отражает" жизнь (если это настоящее искусство), оно моделирует действительность, притом так, чтобы был задействован принцип остранения. Искусство, в отличие от жизни, обладает большой степенью свободы, когда один и тот же жизненный факт мы можем моделировать разными средствами искусства, добиваясь реализации разных целей. Дистанция между жизнью и искусством принципиальна. В знаковой системе искусства соединены настоящее (в котором реципиент воспринимает текст) и прошлое, поскольку текст дан целиком, и то, что он репрезентирует, полагается уже законченным, свершившимся. Искусство, перенося человека в мир свободы, способно показать ему, каковы могли бы быть его поступки, и спровоцировать их этическую оценку. Искусство можно рассматривать как опыт того, что не случилось (см. "Семантика возможных миров"). Отличие феноменов эстетических от феноменов жизненных (например, двух фотографий - художественной и нехудожественной - изображающих одно и то же лицо) в том, что художественный текст всегда "нагружен" глубокой многоуровневой семантикой (более информативен - в системе терминов тех, кто трактует семиотику в информационистском ключе). Большие возможности искусства проистекают из его знаковой природы, когда мы можем сказать, что знак нечто означает. Стремление искусства XX в. к все большей имитации действительности парадоксальным образом создает только более условные, более семиотичные тексты. Лотмановская семиотика описала и процессы опошления, выхолащивания искусства, превращения его в эпигонство. Лотман полагал, что искусство обладает свойством саморазвития, и мы находимся внутри его меняющегося пространства. Простейшая модель любой семиосферы - в том числе и искусства - состоит из трех элементов: "я", "другой" и "семиотическая среда" вокруг нас.
Блестящим примером эстетики Пражского кружка являются взгляды Я. Мукаржовского. В его эстетике сказывается влияние Гегеля, феноменологии, Женевской лингвосемиотической школы (Ф. де Соссюр), русского "формализма". Эстетическая сторона имеется в любом человеческом деянии вместе с практической и теоретической. Эстетические функции - субъективные и знаковые. Эстетическая функция присуща всем видам деятельности человека, а в искусстве ома доминирует, из-за чего в разных сообществах реципиентов один и тот же текст может пониматься как художественный и как внехудожественный. Текст расценивается как искусство при доминировании эстетической функции. Функция может меняться исторически (например, переход богослужебных предметов в разряд памятников искусства).
Иная важнейшая проблема - эстетическая норма. Принципиально различны нормы в тексте, рассматриваемом чисто лингвистически, и в тексте эстетическом. В первом случае нарушение нормы грозит разрушением смысла; во втором - увеличивает смысловую насыщенность и помогает появлению новых значений у знаковых единиц. Лингвистически понимаемый текст стабилен, эстетически понимаемый должен постоянно обновляться в сознании аудитории (почему в этом случае небезразлично, слышат текст или читают). Норма - "скорее, энергия, чем правило". Норма оказывает влияние и на формирование текста, но и сама формируется и меняется при этом. Художественный текст может быть одновременно спроецирован на несколько норм, причем они могут отрицать одна другую, когда возникает переплетение норм. Если эстетическая функция стабилизируется и сводится к одному нормативу, то мы уходим из сферы искусства. Взгляд на эстетическую ценность у Мукаржовского также отличается динамичностью, процессуальностью.
Художественный текст есть сложная композиция старого и нового, индивидуального и уже известного. Истинно художественный текст сопряжен с нарушениями норм того языка, на котором он написан. Привычность, автоматизация нормальна для языка как лингвистического объекта. Но для языка в модусе эстетики это гибель. Поэтический язык - особый способ употребления национального языка (а не некий пласт в последнем). В нем вносится свобода в механизм отношения плана содержания и плана выражения, их соотношения в сознании реципиента деавтоматизируются. Искусство склонно вводить иконическое сходство двух планов знака (в то время как для вербального языка, с которым в первую очередь имели дело структуралисты, отношение двух планов обычно не иконическое, а конвенциональное). Художественный язык обладает экспликационностью - на всех уровнях своей системы он предлагает художнику большой диапазон выбора средств.
Важным достижением в области эстетики невербальных языков является семиотика кино. Кино весьма специфически моделирует время и пространство. Пространство кино существенно отлично от пространства театрального (максимально близкого кинематографу). Кинопространство условно, хотя кинофильм всегда воспринимается как нечто более живое, чем условный театральный спектакль. В кино у актеров отнята роль абсолютных элементов текста (здесь кино сближается с живописью); возможно кино без актеров. Различны и способы "направления взглядов". Эстетика кино усложняется и обогащается за счет приемов монтажа.
Подводя итоги своей эстетической теории, Мукаржовский объединяет эстетический артефакт, его творца и реципиента в коммуникативную цепочку.
Западный структурализм представлен также именами Р. Барта, А.-Ж. Греймаса, К. Бремона, Ю. Кристевой, Ц. Тодорова, Ж. Женнета ("парижская школа"), К. Леви-Стросса, М. Фуко, Ж. Лакана, М. Риффатера, Ж.-К. Кокке.
В Европе расцвет структурализма приходится на послевоенный период, в США он сохраняет влияние до 1970-х гг. Идеи женевской школы Соссюра и американской семиотической школы Пирса-Морриса были положены в его теоретический фундамент. Большое внимание уделялось конвенциональное™ знака (здесь необходимо отметить принципиальное расхождение с отечественной школой философии имени Соловьева - Флоренского - Лосева). Речь является упорядоченной силой, вовлекающей субъекта в деятельность по уже установленным языковым законам. Для французского структурализма, наряду с признанием богатства и разнообразия языков, характерен, тем не менее, вербоцентризм, ориентация на вербальные языки как на образцовые, стержневые в системе культуры. Структура понималась как целостность, обладающая функциями саморегуляции и преобразующаяся упорядочение. В отличие от русской формальной школы и пражского структурализма французская семиотика исследовала знаковые системы преимущественно в диахронии. Структура признавалась в значительной степени универсальной, вневременной, способной одинаково осуществлять свою генеративную, порождающую способность. Она, являясь глубинной реальностью, манифестирует в виде конкретных языковых явлений, генерирует их. Выявление и описание структур - цель структурализма и структуральной эстетики. Эстетическое в такой парадигме может пониматься как одна из функций языка (возможны, впрочем, и иные эстетические предпосылки). "Репертуар" текстовых структур может быть очень большим, но он принципиально ограничен, поэтому анализ эмпирического материала - произведений искусства - подразумевает сведение их многообразия к тем или иным структурным инвариантам. Смысл и смыслоусмотрение зависят от особенностей структуры, сама структура может считаться механизмом смыслопостроения. По мнению многих структуралистов, структура есть феномен несознаваемый, глубинный и скрытый, поэтому необходимо применение специальных выявляющих, эксплицирующих методов. Также для рассматриваемой семиотической школы характерно сближение с теорией лингвистической относительности Сепира-Уорфа. Структурализм признавал, что язык формирует и определяет видение мира. Особая разновидность языка - язык поэтический.
Целая череда дискуссий была связана с проблемой перенесения структуралистских моделей на иные виды искусства (невербальные коды), а также с проблемой самодостаточности (герметичности, закрытости) текста.
Иногда структурализм разделяют на три направления: структурное, коммуникативное и грамматику текста, породившую в итоге грамматологию. Коммуникативные структуралистские теории создавали ситуацию сближения с теорией информации и информационистской эстетикой.
Структуральный подход, безусловно, относим к любому тексту (даже не обязательно вербальному), но среди исследователей текстов выделилось направление, нацеленное на исследование именно художественного текста; изучение эстетической функции становится тогда не только неизбежным, но и приоритетным.
В дальнейшем структурализм усвоил достижения теории речевых актов Дж. Серля и Дж. Остина. Несомненно родство структурализма с искусствометрией, которая во многом обязана структурализму своим возникновением.
Классический структурализм пытался превратить науку о текстах в науку строгую (в отличие, например, от более иррациональной и субъективистской герменевтики), с применением методов моделирования и математического аппарата. В то же время такие тенденции не позволяют отождествить структурализм с примитивным и прямолинейным бихевиоризмом.
В работах Р. Ингардена наметилось сближение феноменологии и структурализма, когда открывающиеся реципиенту смысловые "слои" художественного текста могут быть описаны как элементы стандартной структуры этого текста. Это лишний раз свидетельствует о том, что разделение некоторых направлений современной эстетики является условным.
Р. Барт - крупнейший представитель французского структурализма, в творчестве которого выделяются "доструктуралистский" (50-е гг.), "структуралистский" (60-е гг.) и "постструктуралистский" периоды. При всей неоднозначности его творчества Барт серьезно повлиял на семиотику, литературоведение и эстетику. Ему принадлежит заслуга ввода в научный обиход ряда терминов и терминологических выражений ("письмо", "удовольствие от текста", "прогулка но тексту"). В ранний период творчества Барт исходил из представлений о языке не как пассивном инструменте, когда носитель языка подбирает к означаемому некое означающее, которым и начинает пользоваться как условным эквивалентом предмета. Напротив, язык сам создает обозначаемую реальность, а значит, можно говорить о культурной (в том числе политической, идеологической) ангажированности языка (и литературы в целом), даже если таковая и не заметна на первый взгляд. Здесь теория Барта обретает ряд общих черт с франкфуртской школой и теорией Сепира-Уорфа. Для Барта действительность, несомненно существующая, настолько заслонена многообразными явлениями знакового характера, что обнажить ее ("демифологизировать") становится все труднее. Здесь понятия мифа и знаковой деятельности оказываются сближенными.
Позднее интересы Барта отчетливо смещаются в область знака, текста и дискурса. Это связано с влиянием более старых структуралистских школ (включая копенгагенскую лингвистическую школу). Барт так и не расстался с идеями внутренней связи текста (речи и письма) и реальности, однако это не мешало ему высказать ряд текстоцентрических взглядов, когда реальные события интерпретировались как текстовые явления. Ничто не мешает истолковывать любую часть мира как знак. Большое внимание Барт уделяет исследованию коннотативных - разного рода добавочных - значений знака, а это уже напрямую открывает дорогу к построению семиотической эстетики, так как существование эстетических коннотаций не только несомненно, но и весьма важно для теории и социальной практики. Цель семиотической деятельности в пределах структурализма - моделирование предметов исследования с выявлением структуры. Барт разрабатывает систему исследовательских парадигм в сфере семиологии, набрасывает классификацию знаков.
Основная знаковая деятельность - вербальная (Барт не пришел к окончательному семиологическому универсализму). С этим связано и преимущественное внимание его к литературе. Одно из направлений научной критики Барта - преодоление пережитков позитивистской эстетики. Программная задача - превратить науку об искусстве из пустой болтовни в настоящую полноценную научную дисциплину.
Кроме того, школа Барта построила оригинальную теорию текста и дискурса, исследовала природу эстетического восприятия и наслаждения. Сам Барт оставил классические образцы семиотического анализа текстов (от литературной классики до текстов-предметов, втянутых в обиходную повседневность). Рассматривая семантику знака, Барт указывал на его полисемантичность, на ряд подспудных, неявных значений, возникших в результате сложных процессов бытия и функционирования знака в социуме. Бартовский семиоанализ преодолел представления о знаковой деятельности (семиозисе) как простом, рутинном процессе.
У. Эко сочетает классический структуралистский подход (анализ знаковой семантики, представление языка как кода, знаковая коммуникация, передача информации, выявление специфики знаковых систем разного рода) с отдельными представлениями постструктурализма.
Эко активно интересовался эстетической проблематикой, и сближение эстетики и семиотики в его работах не случайно. Современная эстетическая ситуация мыслится Эко как пограничная, иррациональная, возникшая в результате кризиса европейской рациональности, когда язык, с его традиционными структурами, не в состоянии адекватно выразить эту новую реальность, но при этом постоянно делает попытки этого. Эко резко разводит эстетику и культуру модернизма, с одной стороны, и постмодернизма - с другой. Перенасыщение культурного текстового пространства в эпоху постмодерна изменило характер знаковой референции, когда почти любое знаковое выражение находит свой аналог если не в современности, то в одной из минувших эпох. Цитатное мышление и цитатное творчество становятся глобальными и неизбежными; утрачена новизна художественного творчества. Реальность и язык стали рассогласованными.
В анализе эстетического текста Эко использует категорию открытости. Теория открытого произведения содержала серьезные коррективы структурализма. Произведение уже не мыслилось как замкнутая структура, оно выступало принципиально несовершенным, а читатель, осуществляя интерпретации в весьма широких пределах незаконченности произведения, фактически становился автором, присваивая авторские функции. От классической полисемантичное™ знака теорию Эко отличает установка на практически безграничный горизонт свободных интерпретаций. При этом не выстраивается никакой иерархии интерпретаций (подобно способам истолкования библейского текста в Средневековье), все варианты допустимы и равноположены. Предельным следствием такой теории должен стать бесконечный, принципиально незавершаемый процесс интерпретаций с перенасыщением и так перенасыщенного пространства тестов и смыслов культуры. Эко в принципе склонен сомневаться в реальности текстовых структур и считать их только полезными методологическими гипотезами (когда для классического структурализма они суть совершенная реальность). Эко тяготеет к пантекстуализму, когда вопрос о предтекстовой реальности мира почти упраздняется. Между реальностью и текстом нет прямых референтных отношений. Эстетический текст становится самодостаточным, он сам создает и моделирует реальность.
Позднее взгляды Эко вновь приближаются к классическому структурализму, бесконечная открытость текста сменяется полисемантичностью, отношения текста и контекста становятся более строгими. Возникает модель корреляции интерпретативной деятельности и самого произведения, которое может "сопротивляться" неадекватным истолкованиям. Обращаясь к традиционным взглядам на словесные знаки (а именно из них и состоит литература), Эко говорит об изношенности слов в постмодернистскую эпоху, о потере словами действенности, внутренней силы.
Пытаясь объяснить закономерности наступления постмодернистской эпохи, Эко даже предложил триадическую схему, согласно которой периоды художественной классики, модернизма и постмодернизма сменяют друг друга с закономерным чередованием, хотя эта схема явно создана под влиянием гегелевской логики и не представляется убедительной. Вместе с тем Эко допускал и внеисторичную трактовку постмодернизма, который может быть "свой" у каждой эпохи.
Кризис структурализма, не приведший, конечно, к полной его дискредитации, породил такие явления, как поздний структурализм, постструктурализм, и во многом повлиял на становление эстетики постмодернизма.