Догматическое богословие троица. Непостижимость тайны Святой Троицы. Божественное достоинство Бога-Отца
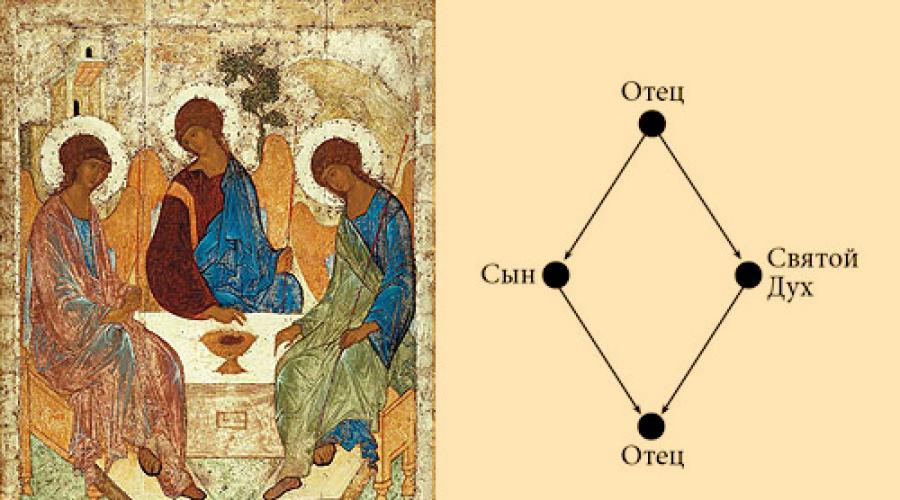
Читайте также
Ибо для чего, как растение, скривившееся на одну сторону, со всем усилием перегибать в противоположную сторону, исправляя кривизну кривизною, а не довольствоваться тем, чтобы, выпрямив только до середины, остановиться в пределах благочестия? Когда же говорю о середине, разумею истину, которую одну и должно иметь в виду, отвергая как неуместное смешение, так и еще более нелепое разделение.
Ибо в одном случае, из страха многобожия сократив понятие о Боге в одну ипостась, оставим у себя одни голые имена, признавая, что один и тот же есть и Отец, и Сын, и Святой Дух, и утверждая не столько то, что все Они одно, сколько то, что каждый из Них ничто; потому что, переходя и переменяясь друг в друга, перестают уже быть тем, что Они Сами в Себе. А в другом случае, разделяя Божество на три сущности, или (по Ариеву, прекрасно так называемому, безумию) одна другой чуждые, неравные и отдельные, или безначальные, несоподчиненные и, так сказать, противобожные, то предадимся иудейской скудости, ограничив Божество одним Нерожденным, то впадем в противоположное, но равное первому зло, предположив три начала и трех Богов, что еще нелепее предыдущего.
Не должно быть таким любителем (почитателем. - Ред. ) Отца, чтобы отнимать у Него свойство быть Отцом. Ибо чьим будет Отцом, когда отстраним и отчуждим от Него вместе с тварью и естество Сына? Не должно быть и таким Христолюбцем, чтобы даже не сохранить у Него свойства - быть Сыном. Ибо чьим будет Сыном, если не относится к Отцу как виновнику? Не должно в Отце умалять достоинства - быть началом, - принадлежащего Ему как Отцу и Родителю. Ибо будет началом чего-то низкого и недостойного, если Он не виновник Божества, созерцаемого в Сыне и Духе. Не нужно все это, когда надобно и соблюсти веру в Единого Бога, и исповедовать три Ипостаси, или три Лица, притом Каждое с личным Его свойством.
Соблюдется же, по моему рассуждению, вера в Единого Бога, когда и Сына, и Духа будем относить к Единому Виновнику (но не слагать и не смешивать с Ним), - относить как по одному и тому же (назову так) движению и хотению Божества, так и тождеству сущности. Соблюдется вера и в Три Ипостаси, когда не будем вымышлять никакого смешения, или слияния, вследствие которых у чествующих более, чем должно, одно, могло бы уничтожиться все. Соблюдутся и личные свойства, когда будем представлять и нарицать Отца безначальным и началом (началом, как Виновника, как Источника, как Присносущного Света); а Сына - нимало не безначальным, однако же и началом всяческих.
Когда говорю: Началом - ты не привноси времени, не ставь чего-либо среднего между Родившим и Рожденным, не разделяй Естества худым вложением чего-то между совечными и сопребывающими. Ибо если время старше Сына, то, без сомнения, Отец стал виновником времени прежде, нежели - Сына. И как был бы Творец времен Тот, Кто Сам под временем? Как был бы Он Господом всего, если время Его упреждает и Им обладает?
Итак, Отец Безначален, потому что ни от кого иного, даже от Себя Самого, не заимствовал бытия (1). А Сын, если представляешь Отца Виновником, не безначален (потому что Начало Сыну - Отец как Виновник); если же представляешь себе Начало относительно ко времени - Безначален (потому что Владыка времен не имеет начала во времени).
А если из того, что тела существуют во времени, заключишь, что и Сын должен подлежать времени, то бестелесному припишешь и тело. И если на том основании, что рождающееся у нас прежде не существовало, а потом приходит в бытие, станешь утверждать, что и Сыну надлежало из небытия прийти в бытие, то уравняешь между собою несравнимое - Бога и человека, тело и бестелесное. В таком случае Сын должен и страдать, и разрушаться, подобно нашим телам. Ты из рождения тел во времени заключаешь, что и Бог так рождается. А я заключаю, что Он рождается не так, из того самого, что тела так рождаются. Ибо что не сходно по бытию, то не сходно и в рождении; разве допустишь, что Бог и в других отношениях подлежит законам вещества, например, страждет и скорбит, жаждет и алчет, и терпит все свойственное как телу, так вместе и телу и бестелесному. Но сего не допускает твой ум, потому что у нас слово о Боге. Посему и рождение допускай не иное, как Божеское.
Но спросишь: если Сын рожден, то как рожден? Отвечай прежде мне, неотступный совопросник: если Он сотворен, то как сотворен? А потом и меня спрашивай: как Он рожден?
Ты говоришь: "И в рождении страдание, как страдание в сотворении. Ибо без страдания ли бывает составление в уме образа, напряжение ума и представленного совокупно разложения на части? И в рождении так же время, как творимое, созидается во времени. И здесь место, и там место. И в рождении возможна неудача, как в сотворении бывает неудача (у вас слышал я такое умствование), ибо часто, что предначертал ум, того не выполняли руки".
Но и ты говоришь, что все составлено словом и хотением. "Той рече, и быша: Той повеле, и создашася" (Пс. 32, 9). Когда же утверждаешь, что создано все Божиим Словом, тогда вводишь уже не человеческое творение. Ибо никто из нас производимого им не совершает словом. Иначе не было бы для нас ничего ни высокого, ни трудного, если бы стоило только сказать и за словом следовало исполнение дела.
Поэтому если Бог созидаемое Им творит словом, то у Него не человеческий образ творения. И ты или укажи мне человека, который бы совершил что-нибудь словом, или согласись, что Бог творит не как человек. Предначертай по воле своей город, и пусть явится у тебя город. Пожелай, чтобы родился у тебя сын, и пусть явится младенец. Пожелай, чтобы совершилось у тебя что-либо другое, и пусть желание обратится в самое дело.
Если же у тебя не следует ничего такого за хотением, между тем как в Боге хотение есть уже действие, то явно, что иначе творит человек, и иначе - Творец всего - Бог. А если Бог творит не по-человечески, то как же требуешь, чтобы Он рождал по-человечески?
Ты некогда не был, потом начал бытие, а после и сам рождаешь и таким образом приводишь в бытие то, что не существовало, или (скажу тебе нечто более глубокомысленное), может быть, и сам ты производишь не то, что не существовало. Ибо и Левий, как говорит Писание, "еще в чреслех отчиих бяше" (Евр. 7, 10), прежде нежели произошел на свет.
И никто да не уловляет меня на сем слове; я не говорю, что Сын так произошел от Отца, как существовавший прежде в Отце и после уже приходящий в бытие; не говорю, что Он сперва был несовершен, а потом стал совершенным, каков закон нашего рождения. Делать такие привязки свойственно людям неприязненным, готовым нападать на всякое произнесенное слово.
Мы не так умствуем; напротив того, исповедуя, что Отец имеет бытие нерожденно (а Он всегда был, и ум не может представить, чтобы когда-либо не было Отца), исповедуем вместе, что и Сын был рожден, так что совпадают между собою и бытие Отца, и рождение Единородного, от Отца сущего, и не после Отца, разве допустим последовательность в одном только представлении о начале, и о начале, как о Виновнике (не раз уже возвращаю к тому же слову дебелость и чувственность твоего разумения).
Но ежели без пытливости принимаешь рождение (когда так должно выразиться) Сына, или Его самостоятельность (upostasis), или пусть изобретет кто-нибудь для сего другое, более свойственное предмету речение (потому что умопредставляемое и изрекаемое превосходит способы моего выражения), то не будь пытлив и касательно исхождения Духа.
Достаточно для меня слышать, что есть Сын, что Он от Отца, что иное Отец, иное Сын; не любопытствую о сем более, чтобы не подпасть тому же, что бывает с голосом, который от чрезмерного напряжения прерывается, или со зрением, которое ловит солнечный луч. Чем кто больше и подробнее хочет видеть, тем больше повреждает чувство, и в какой мере рассматриваемый предмет превышает объем зрения, в такой человек теряет самую способность зрения, если захочет увидеть целый предмет, а не такую часть его, какую мог бы рассмотреть без вреда.
Ты слышишь о рождении; не допытывайся знать, каков образ рождения. Слышишь, что Дух исходит от Отца; не любопытствуй знать, как исходит.
Но если любопытствуешь о рождении Сына и об исхождении Духа, то полюбопытствую и я у тебя о соединении души и тела: как ты - и перст, и образ Божий? Что в тебе движущее или движимое? Как одно и то же и движет, и движется? Как чувство пребывает в том же человеке и привлекает внешнее? Как ум пребывает в тебе, и рождает понятие в другом уме? Как мысль передается посредством слова?
Не говорю о том, что еще труднее. Объясни вращение неба, движение звезд, их стройность, меры, соединение, расстояние, пределы моря, течения ветров, перемены годовых времен, излияния дождей. Ежели во всем этом ничего не разумеешь ты, человек (уразумеешь же, может быть, со временем, когда достигнешь совершенства, ибо сказано: "Узрю Небеса, дела перст Твоих" (Пс. 8, 4), а из сего можно догадываться, что видимое теперь не самая Истина, но только образ истины), ежели и о себе самом не познал, кто ты, рассуждающий об этих предметах, ежели не постиг и того, о чем свидетельствует даже чувство, то как же предприемлешь узнать в подробности, что такое и как велик Бог? Это показывает великое неразумие!
Если же поверишь несколько мне, недерзновенному Богослову, то скажу тебе, что одно ты уже постиг, а чтобы постигнуть другое, о том молись. Не пренебрегай тем, что в тебе, а прочее пусть остается в сокровищнице. Восходи посредством дел, чтобы чрез очищение приобретать чистое.
Хочешь ли со временем стать Богословом и достойным Божества? Соблюдай заповеди и не выступай из повелений. Ибо дела, как ступени, ведут к созерцанию. Трудись телом для души. И может ли кто из людей стать столько высоким, чтобы прийти в меру Павлову? Однако же и он говорит о себе, что видит только "зерцалом в гадании" и что наступит время, когда узрит "лицем к лииу" (1 Кор. 13, 12).
Положим, что на словах и превосходим мы иного любомудрием, однако же, без всякого сомнения, ты ниже Бога. Может быть, что ты и благоразумнее другого, однако же пред истиною в такой же мере ты мал, в какой бытие твое отстоит от бытия Божия.
Нам дано обетование, что познаем некогда, сколько сами познаны (1 Кор. 13, 12). Если невозможно иметь мне совершенного познания здесь, то что еще остается? Чего могу надеяться? - Без сомнения, скажешь: Небесного Царства. Но думаю, что оно не иное что есть, как достижение Чистейшего и Совершеннейшего. А совершеннейшее из всего существующего есть ведение Бога. Сие-то ведение частью да храним, частью да приобретаем, пока живем на земле, а частью да сберегаем для себя в тамошних Сокровищницах, чтобы в награду за труды приять всецелое познание Святой Троицы, что Она, какова и колика, если позволено будет выразиться так, в Самом Христе Господе нашем, Которому слава и держава во веки веков, аминь.
Екатеринбургская Православная Духовная Семинария
Заочное отделение
СОЧИНЕНИЕ
по предмету «Догматическое богословие»
на тему «История догмата о Пресвятой Троице»
Учащегося 2 курса
Иерея Шумилова Вячеслава Владимировича
Екатеринбург, 2014
План сочинения
Список литературы
пресвятая троица бог завет
Догмат о Пресвятой Троице - основание христианской религии
Бог есть един по существу, но троичен в лицах: Отец, Сын и Святых Дух, Троица единосущная и нераздельная.
Само слово "Троица" небиблейского происхождения, в христианский лексикон введено во второй половине II века святителем Феофилом Антиохийским. Учение о Пресвятой Троице дано в христианском Откровении.
Догмат о Пресвятой Троице непостижим, это таинственный догмат, непостижимый на уровне рассудка. Для человеческого рассудка учение о Пресвятой Троице противоречиво, потому что это тайна, которая не может быть выражена рационально.
Не случайно о. Павел Флоренский называл догмат о Святой Троице "крестом для человеческой мысли". Для того, чтобы принять догмат о Пресвятой Троице греховный человеческий рассудок должен отвергнуть свои претензии на способность все познавать и рационально объяснять, т. е. для уразумения тайны Пресвятой Троицы необходимо отвергнуться своего разумения.
Тайна Пресвятой Троицы постигается, причем только отчасти, в опыте духовной жизни. Это постижение всегда сопряжено с аскетическим подвигом. В.Н.Лосский говорит: "Апофа- тическое восхождение есть восхождение на Голгофу, поэтому никакая спекулятивная философия никогда не могла подняться до тайны Пресвятой Троицы".
Вера в Троицу отличает христианство от всех других монотеистических религий: иудаизма, ислама. Учение о Троице есть основание всего христианского веро- и нравоучения, например, учения о Боге Спасителе, о Боге Освятителе и т. д. В.Н.Лосский говорил, что Учение о Троице "не только основа, но и высшая цель богословия, ибо... познать тайну Пресвятой Троицы в ее полноте - значит войти в Божественную жизнь, в саму жизнь Пресвятой Троицы."
Учение о Триедином Боге сводится к трем положениям:
) Бог троичен и троичность состоит в том, что в Боге Три Лица (ипостаси): Отец, Сын, Святой Дух.
) Каждое Лицо Пресвятой Троицы есть Бог, но Они суть не три Бога, а суть единое Божественное существо.
) Все три Лица отличаются личными, или ипостасными свойствами.
Аналогии Пресвятой Троицы в мире
Святые отцы, для того, чтобы как-то приблизить учение о Пресвятой Троице к восприятию человека, пользовались различного рода аналогиями, заимствованными из мира тварного.
Например, солнце и исходящие от него свет и тепло. Источник воды, происходящий из него ключ, и, собственно, поток или река. Некоторые усматривают аналогию в устроении человеческого ума (святитель Игнатий Брянчанинов. Аскетические опыты): "Наш ум, слово и дух, по единовременности своего начала и по своим взаимным отношениям, служат образом Отца, Сына и Святого Духа".
Однако все эти аналогии являются весьма несовершенными. Если возьмем первую аналогию - солнце, исходящие лучи и тепло, - то эта аналогия предполагает некоторый временный процесс. Если мы возьмем вторую аналогию - источник воды, ключ и поток, то они различаются лишь в нашем представлении, а в действительности это единая водная стихия. Что касается аналогии, связанной со способностями человеческого ума, то она может быть аналогией лишь образа Откровения Пресвятой Троицы в мире, но никак не внутритроичного бытия. К тому же все эти аналогии ставят единство выше троичности.
Святитель Василий Великий самой совершенной из аналогий, заимствованных из тварного мира, считал радугу, потому что "один и тот же свет и непрерывен в самом себе и многоцветен". "И в многоцветности открывается единый лик - нет середины и перехода между цветами. Не видно, где разграничиваются лучи. Ясно видим различие, но не можем измерить расстояний. И в совокупности многоцветные лучи образуют единый белый. Единая сущность открывается во многоцветном сиянии".
Недостатком этой аналогии является то, что цвета спектра не есть самостоятельные личности. В целом для святоотеческого богословия характерно весьма настороженное отношение к аналогиям.
Примером такого отношения может служить 31-е Слово святителя Григория Богослова: "Наконец, заключил я, что всего лучше отступиться от всех образов и теней, как обманчивых и далеко не достигающих до истины, держаться же образа мыслей более благочестивого, остановившись на немногих речениях".
Иначе говоря, нет образов для представления в нашем уме этого догмата; все образы, заимствованные из тварного мира, являются весьма несовершенными.
Краткая история догмата о Пресвятой Троице
В то, что Бог есть един по существу, но троичен в лицах, христиане верили всегда, но само догматическое учение о Пресвятой Троице создавалось постепенно, обычно в связи с возникновением различного рода еретических заблуждений. Учение о Троице в христианстве всегда было связано с учением о Христе, с учением о Боговоплощении. Тринитарные ереси, тринитарные споры имели под собой христологическое основание.
В самом деле, учение о Троице стало возможным благодаря Боговоплощению. Как говорится в тропаре Богоявления, во Христе "Троическое явися поклонение". Учение о Христе "для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие" (1 Кор. 1, 23). Также и учение о Троице есть камень преткновения и для "строгого" иудейского монотеизма и для эллинского политеизма. Поэтому все попытки рассудочно осмыслить тайну Пресвятой Троицы приводили к заблуждениям либо иудейского, либо эллинского характера. Первые растворяли Лица Троицы в единой природе, например, савеллиане, а другие сводили Троицу к трем неравным существам (ариане).
Осуждение арианства произошло в 325 году на Первом Вселенском Соборе с Никее. Основным деянием этого Собора было составление Никейского Символа Веры, в который были внесены небиблейские термины, среди которых особую роль в тринитарных спорах IV столетия сыграл термин «омоусиос» - «единосущный».
Чтобы раскрыть подлинный смысл термина "омоусиос" понадобились огромные усилия великих Каппадокийцев: Василия Великого, Григория Богослова и Григория Нисского.
Великие Каппадокийцы, в первую очередь, Василий Великий, строго разграничили понятия "сущности" и "ипостаси". Василий Великий определил различие между "сущностью" и, "ипостасью" как между общим и частным.
Согласно учению Каппадокийцев сущность Божества и отличительные ее свойства, т. е. неначинаемость бытия и Божеское достоинство принадлежат одинаково всем трем ипостасям. Отец, Сын и Святой Дух суть проявления ее в Лицах, из которых каждое обладает всей полнотой божественной сущности и находится в неразрывном единстве с ней. Отличаются же Ипостаси между собой только личными (ипостасными) свойствами.
Кроме того, Каппадокийцы фактически отождествили (прежде всего два Григория: Назианзин и Нисский) понятие "ипостась" и "лицо". "Лицо" в богословии и философии того времени являлось термином, принадлежавшим не к онтологическому, а к описательному плану, т. е. лицом могли называть маску актера или юридическую роль, которую выполнял человек.
Отождествив "лицо" и "ипостась" в троичном богословии, Каппадокийцы тем самым перенесли этот термин из плана описательного в план онтологический. Следствием этого отождествления явилось, по существу, возникновение нового понятия, которого не знал античный мир: этот термин - "личность". Каппадокийцам удалось примирить абстрактность греческой философской мысли с библейской идеей личного Божества.
Главное в этом учении то, что личность не является частью природы и не может мыслиться в категориях природы.
Амфилохий Иконийский называли Божественные ипостаси "способами бытия" Божественной природы. Согласно их учению, личность есть ипостась бытия, которая свободно ипостазирует свою природу. Таким образом, личностное существо в своих конкретных проявлениях не предопределено сущностью, которая придана ему извне, поэтому Бог не есть сущность, которая предшествовала бы Лицам. Когда мы называем Бога абсолютной Личностью, мы тем самым хотим выразить ту мысль, что Бог не определяется никакой ни внешней, ни внутренней необходимостью, что Он абсолютно свободен по отношению к Своему собственному бытию, всегда является таким, каким желает быть и всегда действует так, как того хочет, т. е. свободно ипостазирует Свою триединую природу.
Указания на троичность (множественность) Лиц в Боге в Ветхом и Новом Завете
В Ветхом Завете имеется достаточное количество указаний на троичность Лиц, а также прикровенные указания на множественность лиц в Боге без указания конкретного числа.
Об этой множественности говорится уже в первом стихе Библии (Быт. 1, 1): "Вначале сотворил Бог небо и землю". Глагол "бара" (сотворил) стоит в единственном числе, а существительное "элогим" - во множественном, что буквально означает "боги".
Быт. 1, 26: "И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему". Слово "сотворим" стоит во множественном числе. То же самое Быт. 3, 22: "И сказал Бог: вот Адам стал как один из Нас, зная добро и зло". «Из Нас» - тоже множественное число.
Быт. 11, 6 - 7, где речь о Вавилонском столпотворении: "И сказал Господь: ...сойдем же и смешаем там язык их", слово "сойдем" - во множественном числе. Святитель Василий Великий в Шестодневе (Беседа 9), следующим образом комментирует эти слова: "Подлинно странное пустословие - утверждать, что кто-нибудь сидит и сам себе, приказывает, сам над собою надзирает, сам себя понуждает властительно и настоятельно. Второе - это указание собственно на три Лица, но без наименования лиц и без их различения".глава книги "Бытия", явление трех Ангелов Аврааму. В начале главы говорится, что Аврааму явился Бог, в еврейском тексте стоит "Иегова". Авраам, вышедши навстречу трем странникам, кланяется Им и обращается к Ним со словом "Адонаи", буквально "Господь", в единственном числе.
В святоотеческой эгзегезе встречается два толкования этого места. Первое: явился Сын Божий, Второе Лицо Пресвятой Троицы, в сопровождении двух ангелов. Такое толкование мы встречаем у мч. Иустина Философа, у святителя Илария Пиктавийского, у святителя Иоанна Златоустого, у блаженного Феодорита Киррского.
Однако большинство отцов - святители Афанасий Александрийский, Василий Великий, Амвросий Медиоланский, блаженный Августин, - считают, что это явление Пресвятой Троицы, первое откровение человеку о Триединстве Божества.
Именно второе мнение было принято православным Преданием и нашло свое воплощение, во-первых, в гимнографии, где говорится об этом событии именно как о явлении Триединого Бога, и в иконографии (известная икона "Троица ветхозаветная").
Блаженный Августин ("О граде Божием", кн. 26) пишет: "Авраам встречает трех, поклоняется единому. Узрев трех он уразумел таинство Троицы, а поклонившись как бы единому - исповедал Единого Бога в Трех лицах".
Указание на троичность Бога в Новом Завете - это прежде всего Крещение Господа Иисуса Христа в Иордане от Иоанна, которое получило в Церковном Предании наименование Богоявления. Это событие явилось первым явным Откровением человечеству о Троичности Божества.
Далее, заповедь о крещении, которую дает Господь Своим ученикам по Воскресении (Мф. 28, 19): "Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа". Здесь слово "имя" стоит в единственном числе, хотя относится оно не только к Отцу, но и к Отцу, и Сыну, и Святому Духу вместе. Святитель Амвросий Медиоланский следующим образом комментирует этот стих: "Сказал Господь "во имя", а не "во имена", потому что один Бог, не многие имена, потому что не два Бога и не три Бога".
Кор. 13, 13: "Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми вами". Этим выражением апостол Павел подчеркивает личностность Сына и Духа, которые подают дарования наравне с Отцом.
Ин. 5, 7: "Три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух; и Сии три суть едино". Это место из послания апостола и евангелиста Иоанна является спорным, поскольку в древнегреческих рукописях этот стих отсутствует.
Пролог Евангелия от Иоанна (Ин. 1, 1): "Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог". Под Богом здесь понимается Отец, а Словом именуется Сын, т. е. Сын был вечно с Отцом и вечно был Богом.
Преображение Господне есть также Откровение о Пресвятой Троице. Вот как комментирует это событие евангельской истории В.Н.Лосский: "Поэтому и празднуется так торжественно Богоявление и Преображение. Мы празднуем Откровение Пресвятой Троицы, ибо слышен был голос Отца и присутствовал Святый Дух. В первом случае под видом голубя, во втором - как сияющее облако, осенившее апостолов».
Различие Божественных Лиц по ипостасным свойствам
Согласно церковному учению, Ипостаси суть Личности, а не безличные силы. При этом Ипостаси обладают единой природой. Естественно встает вопрос, каким образом их различать?
Все божественные свойства относятся к общей природе, они свойственны всем трем Ипостасям и поэтому сами по себе различия Божественных Лиц выразить не могут. Невозможно дать абсолютное определение каждой Ипостаси, воспользовавшись одним из Божественных имен.
Одна из особенностей личностного бытия состоит в том, что личность уникальна и неповторима, а следовательно, она не поддается определению, ее нельзя подвести под некое понятие, поскольку понятие всегда обобщает; невозможно привести к общему знаменателю. Поэтому личность может быть воспринята только через свое отношение к другим личностям.
Именно это мы видим в Священном Писании, где представление о Божественных Лицах основано на отношениях, которые между ними существуют.
Примерно начиная с конца IV века можно говорить об общепринятой терминологии, согласно которой ипостасные свойства выражаются следующими терминами: у Отца - нерожденность, у Сына - рожденность (от Отца), и исхождение (от Отца) у Святого Духа. Личные свойства суть свойства несообщимые, вечно остающиеся неизменными, исключительно принадлежащие тому или другому из Божественных Лиц. Благодаря этим свойствам Лица различаются друг от друга, и мы познаем их как особые Ипостаси.
При этом, различая в Боге три Ипостаси, мы исповедуем Троицу единосущной и нераздельной. Единосущие означает, что Отец, Сын и Святой Дух суть три самостоятельных Божественных Лица, обладающие всеми божественными совершенствами, но это не три особые отдельные существа, не три Бога, а Единый Бог. Они имеют единое и нераздельное Божеское естество. Каждое из Лиц Троицы обладает божественным естеством в совершенстве и всецело.
Список литературы
1. Спасский А. А. История догматических движений в эпоху Вселенских соборов (в связи с философскими учениями того времени). Тринитарный вопрос (История учения о св. Троице). - Сергиев Посад, 1914.
В. В. Болотов. Учение Оригена о Св. Троице (1879)
П. И. Верещацкий. Плотин и блаженный Августин в их отношении к тринитарной проблеме (1911)
Раушенбах Б. В. «Логика троичности»
Исаак «О святой Троице и воплощении Господа»
Репетиторство
Нужна помощь по изучению какой-либы темы?
Наши специалисты проконсультируют или окажут репетиторские услуги по интересующей вас тематике.
Отправь заявку
с указанием темы прямо сейчас, чтобы узнать о возможности получения консультации.
На заре человеческой истории вера в Единого Бога была достоянием всех людей. Откровение о единобожии наши прародители восприняли в раю и передали своим потомкам. Это предание длительное время сохранялось среди наших предков, пока погружение в плотскую жизнь и омрачение разума, воли и чувств людей в страстях нечестия не привели к тому, что большая часть человечества утратила истинное представление о Боге. Люди, познав Бога, не прославили Его как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; называя себя мудрыми, обезумели и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному, человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся… Они заменили истину Божию ложью и поклонялись… твари вместо Творца, Который благословен во веки, аминь, - так объясняет Апостол появление язычества - политеизма (Рим. 1, 21-23, 25).
Ко времени жизни патриарха Авраама вера в Единого Бога была достоянием немногих праведников, к которым принадлежал, например, Мелхиседек, царь Салимский. В потомстве Авраама монотеистическая вера была вновь утверждена Богом и ограждена строгими предписаниями Закона. Так, пророк Моисей наставлял евреев: «Слушай, Израиль: Господь Бог наш, Господь един есть» (Втор. 6, 4). Сам Бог возвещает через пророка Исаию: «Я первый и Я последний, и кроме Меня нет Бога» (Ис. 44, 6), «Я Господь и нет иного» (Ис. 45, б и др.).
Истина единства (единственности) Бога нашла подтверждение в новозаветной проповеди Спасителя: «Господь Бог наш есть Господь единый» (Мк.- 12, 29). В Своей первосвященнической молитве Христос молится Единому Истинному Богу (Ин. 17, 3). Апостол так же учит: нет иного Бога, кроме Единого (1 Кор. 8, 4).
Проповедь монотеизма в новозаветные времена встречала многочисленных противников, прежде всего, в лице язычников, остававшихся во тьме идолопоклонства и политеизма, а затем - в лице полухристианских сект гностиков и манихеев. Если гностики допускали, кроме верховного Бога, множество низших божеств - эонов, то учение манихеев было дуалистично. Они учили о вечной борьбе двух начал: доброго и злого. Святые отцы вскрывали логическую противоречивость политеизма и дуализма. Они указывали, что всесовершенный Абсолют, Которым только и должен мыслиться Бог, может быть только оцин. Два или более независимых Абсолютов непременно ограничивали бы друг друга и потому не имели бы необходимых для Истинного Бога свободы и совершенства, то есть не были бы по сути богами. «Многоначалие есть безначалие» и «многобожие есть безбожие», - говорит святой Афанасий Великий. Существование зла в мире объясняется не дуализмом, а злоупотреблением своей свободой тварными существами (Ангелами и человеком).
Святой Иоанн Дамаскин вкратце обобщает все, что было сказано древними отцами в подтверждение истины единобожия (монотеизма). Он пишет: «Бог совершенен и не имеет недостатков и по благости, и по премудрости, и по силе, безначален, бесконечен, присносущ, неограничен и, словом сказать, совершенен по всему. Итак, если допустим многих богов, то необходимо будет признать различие между этими многими. Ибо если между ними нет никакого различия, то уже один (Бог), а не многие; если же между ними есть различие, то где совершенство? Если будет недоставать совершенства или по благости, или по силе, или по премудрости, или по времени, или по месту, то уже не будет и Бог. Тождество же во всем указывает скорее Единого Бога, а не многих.
Сверх того, если бы много было богов, то как бы сохранилась их неописуемость (безграничность)? Ибо где был бы один, там не был бы другой.
Каким же образом многими управлялся бы мир, и не разрушился, и не расстроился бы, когда между управляющими произошла бы война? Потому что различие вводит противоборство. Если же кто скажет, что каждый из них управляет своей частью, то что же ввело такой порядок и сделало между ними раздел? Этот-то, собственно, и был бы Бог. Итак, един есть Бог, совершенный, неописуемый, Творец всего, Содержитель и Правитель, превыше и прежде всякого совершенства».
Язычество не знало единого личностного Бога. По мысли многах древнегреческих философов, над бесчисленными богами Эллады господствует «Необходимость» - высший мир красоты и безличностного бытия. В неоплатонизме, как и в современном индуизме, проповедуется мистическое учение о соединении с Божеством путем растворения в океане безличностного Божественного Абсолюта.
Напротив, Бог Библии - это всегда Личность. Конечно, Бог - это Абсолют, обладающий всеми совершенствами, но Абсолют личностный, к Которому мы обращаемся на «Ты» в молитве. И даже ни вершинах молитвенных созерцаний личность христианского подвижника не исчезает в глубинах Божества. На всех этапах духовного восхождения жизнь христианина остается жизнью сознательной. Экстатические состояния с характерной для них потерей свободы и сознания, по мысли святого Симеона Нового Богослова, приличествуют только новоначальным, чья природа еще не стяжала постоянного опыта видения Божественной Реальности.
Личностное обращение с Богом известно не только христианству, но и дохристианскому иудаизму, однако в Ветхом Завете Бог еще не раскрывал с такой ясностью, как в новозаветные времена, Своей Триединой Природы. Не было и подлинной взаимности в отношениях между Богом и человеком. Страшный в Своем величии Бог Израиля повелевал и учил, от человека же требовалось лишь полное послушание Его воле. Сравнивая Ветхий и Новый-Заветы, Апостол Павел говорит, что первый рождал в рабство, а второй даровал сыноположение (Гал. 4, 24-31). Если ветхозаветному Израилю и не чуждо было представление о Боге как об Отце, то есть как о Господине, защитнике и покровителе Своего народа, то в новозаветную эпоху идея Богоотцовства коренным образом переосмысливается и бесконечно углубляется. Во Христе человечество навсегда соединилось с Божеством. Наше естество действительно было усыновлено Богом. Обращаясь к Богу с дерзновенными словами «Отче наш…», мы тем самым свидетельствуем, что в Церкви мы стали детьми Божиими по сотелесности Христу и по дарованной нам во Христе Божественной благодати. Такой глубочайшей близости отношений Бога и человека Ветхий Завет, безусловно, не знал.
Абсолютный монотеизм выделял иудеев из среды языческих народов. Но Израиль не ведал природы Божества и потому имел ограниченное представление о Божественном единстве как единичности Божества. В христианстве истина единобожия получает дальнейшее освещение. В Евангельском Благовестии открывается тайна Божественного Триединства: Бог един не только потому, что нет иного Бога, не только в силу единства, простоты и неизменности Природы, но также потому, что в Святой Троице созерцается единое «Начало» - Личность Отца, от Которого вечно происходят Сын и Святой Дух. Последнее необходимо помнить, когда мы говорим о единстве Божества. «Когда я называю Бога, я называю Отца, Сына и Святого Духа. Не потому, что я предполагаю, что Божество рассеяно, - это значило бы вернуться к путанице ложных богов (политеизму); и не потому, чтобы я считал Божество собранным воедино (без различения Лиц), - это ” значило бы Его обеднить. Итак, я не хочу впадать ни в иудейство, ради божественного единодержавия, ни в эллинство, из-за множества богов», - пишет святитель Григорий Богослов. Таким образом, христианское понимание Бога как Триединого превосходит узость иудейского монотеизма и отметает заблуждение языческого политеизма.
Догмат о Пресвятой Троице – основание христианской религии
Истина Божественного Триединства - вершина Откровения Бога человеку. Если познать Бога как Творца или Единого возможно путем не только Сверхъестественного, но и естественного откровения, то до тайны Святой Троицы никакая философия подняться не смогла. Исповедание догмата о Пресвятой Троице отличает христианство от других монотеистических религий, например, иудаизма и ислама. По определению святого Афанасия Александрийского, христианская вера - это вера в «неизменяемую, совершенную и блаженную Троицу».
В исповедании тройческой тайны состоит совершенство богословия и истинное благочестие. Для греческих отцов учение о Святой Троице и было областью собственно богословия. Усмотрев прикровенное указание на тайну Святой Троицы в словах псалма: в свете Твоем узрим свет (35, 10), - святой Григорий Богослов пишет: «Мы ныне узрели и проповедуем краткое, ни в чем не излишествующее богословие Троицы, от Света - Отца приняв Свет - Сына, во Свете - Духа».
Догмат о Святой Троице занимает исключительно важное место в системе христианского вероучения, так как на нем основываются другие важнейшие догматы, в частности, о сотворении мира и человека, о спасении и освящении человека, учение о Таинствах Церкви, да и в целом все христианское веро- и нравоучение. По словам В. Лосского, тайна Пресвятой Троицы, открытая Церкви, «есть не только основа, но и высшая цель богословия, ибо, по мысли Евагрия Понтийского, которую разовьет впоследствии святой Максим Исповедник, познать тайну Пресвятой Троицы в ее полноте - это значит войти в совершенное соединение с Богом, достичь обожения.своего существа, то есть войти и в Божественную жизнь: в саму жизнь Пресвятой Троицы».
Божественная Троица есть Альфа и Омега – Начало и Конец - духовного пути. Исповеданием Святой Троицы мы начинаем свою духовную жизнь. Крещением во имя Божественной Троицы мы входим в Церковь и в ней обретаем путь ко Отцу, истину в Сыне и жизнь во Святом Духе.
Вера Апостольской Церкви в Святую Троицу нашла свое выражение в догматических постановлениях Вселенских и Поместных Соборов, в Символе веры, в кратких и обширных исповеданиях веры древних Церквей и святых отцов разных эпох, в богатейшей святоотеческой письменности (более систематически изложена уже с середины II в. в трудах таких ранних отцов, как святой мученик Иустин Философ и святой Ириней Лионский). Вера в Триединого Бога запечатлена также в древнейшем и более позднем литургическом предании Церкви. Например, в древних малых славословиях: «Слава Отцу через Сына во Святом Духе» или «Слава Отцу и Сыну со Святым Духом», а также «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». Святитель Василий Великий приводит также следующие слова светильничного благодарения: «Хвалим Отца и Сына и Святаго Духа Божия».
Непостижимость догмата о Святой Троице
Являясь краеугольным камнем христианского вероучения, догмат о Пресвятой Троице в то же время есть догмат таинственный и на уровне рассудка непостижимый.
Наш разум встает в тупик перед открывшейся реальностью Божественной жизни. Он бессилен понять, каким образом Троица одновременно есть и Единица; как «одно и то же соединено и раздельно» или что это за необычайное «разделение соединенное» и «единение разделенное». По мысли святого Григория Нисского, человек, просвещаемый Святой Троицей, хотя и получает некоторое «скромное боговедение», не может, однако же, «уяснить словом этого неизреченной глубины таинства: как одно и то же числимо, и избегает счисления, и раздельным кажется, и заключается в единице». Утверждение, что «Бог одинаково и Единица и Троица» (т.е. одновременно и то и другое), представляется нашему рассудку противоречивым. Действительно, «троичный догмат есть крест для человеческой мысли». В силу ограниченности человеческого разума тайна Святой Троицы не может быть точно выражена в слове. Ее можно в известной мере постигать только в опыте духовной жизни. «Не успею помыслить об Едином, как озаряюсь Тремя. Не успел разделить Трех, как возношусь к Единому», - восклицает певец Святой Троицы, святитель Григорий Богослов. К Богу, в частности, неприложима привычная для нас категория числа. Рассматривая свойства чисел и пытаясь приблизиться к тайне числа «Три», святитель Григорий Богослов отмечает внутреннюю полноту этого числа, так как 1 - число скудное; 2 - число разделяющее, а 3 - первое число, которое превосходит и бедность единицы, и разделение двоицы. Оно одновременно содержит в себе и единство (1) и множество (3).
Впрочем, как отмечали отцы Церкви, к Богу неприменимо никакое вещественное число, ни 1, ни 3, потому что исчислять можно только предметы, разделенные пространством, временем и силами. Но Божественная Троица есть абсолютное Единство. Между Лицами Святой Троицы нет никакого промежутка, нет ничего вставного, никакого сечения или разделения. В ответ на обвинения в требожии святитель Василий Великий пишет: «Мы не ведем счет (Богов), переходя от одного до множественности путем прибавления, говоря один, два, три или первый, второй, третий, ибо «Я первый и Я последний, и кроме Меня нет Бога» (Ис. 44, 6). Никогда до сего дня не говорили: «второй Бог» (или «третий»), но поклонялись Богу от Бога»… исповедуя единство Божества.
Откровение о Святой Троице представляется апорией ^лько для нашего ограниченного рассудка. В самой Божественной жизни нет никаких антиномий, или противоречий. Святые отцы опытно созерцали Единую Троицу, в Которой, как это ни парадоксально, единство нисколько не противоречит троичности. Так, достигший совершенства в боговидении, святитель Григорий Палама пишет, что Бог есть «Единица в Троице и Троица во Единице, неслитно соединяемая и нераздельно различаемая. Единица, Она же и Троица всемогущая».
Богословие не ставит перед собой целью снять тайну, приспособив богооткровенную истину к нашему пониманию, но призывает нас изменить наш ум так, чтобы он стал способен к созерцанию Божественной реальности. Для того, чтобы удостоиться созерцания Святой Троицы, нужно достичь состояния обожения. Святитель Григорий Богослов пишет: «Будут сонаследниками совершенного света и созерцания Пресвятой и Владычной Троицы… те, которые совершенно соединятся с совершенным Духом, и это будет, как я думаю, Царство Небесное». Дух Святой, от Отца исходящий и в Сыне почивающий, отверзал святым отцам ум к познанию тайны Божественного Триединства.
Аналогии Святой Троицы в мире
Ошибкой было бы думать, что в силу непостижимости догмата о Святой Троице мы не можем иметь никакого верного представления о Боге. Конечно, наше знание всегда будет неполным и несовершенным, но мы способны приобретать некоторое ведение о Святой Троице из рассмотрения видимого мира и природы человека, сотворенного по образу Божию, то есть по образу Святой Троицы.
Одна из природных аналогий - это солнце и исходящие от него лучи и свет, подобно тому, как от Отца вечно и нераздельно происходят Сын и Дух. Другой подобный же пример - огонь, который дает свет и тепло, имеющие между собой единство и различие; третья аналогия - сокрытый в земле источник воды, ключ и поток, неразрывно соединенные между собой и, однако, различные. Можно указать и другие аналогии. Например: корень дерева, его ствол и ветвь. Эти аналогии очень далеки от выражения сущности троичного догмата, так как заимствуются из области, далекой от духовно-личностного бытия.
Более глубокие аналогии можно указать в богоподобной природе человека. По мысли святителя Григория Паламы и других отцов, единой человеческой душе присущи ум, слово и дух (животворящий тело). «Ум наш, - пишет святитель Игнатий (Брянчанинов), - образ Отца; слово наше (непроизнесенное слово мы обыкновенно называем мыслью) - образ Сына; дух - образ Святого Духа. Эти три силы, не смешиваясь, составляют в человеке одно существо, как в Троице Три Лица неслитно и нераздельно составляют одно Божественное Существо.
Ум наш родил, не престает рождать мысль; мысль, родившись, не престает рождаться и, вместе с тем, пребывает рожденной, сокровенной в уме…
Точно так же дух (совокупность сердечных чувств) содействует мысли. Потому-то всякая мысль имеет свой дух, всякий образ мыслей имеет свой дух, всякая книга имеет свой собственный дух…
Наш ум, слово и дух, по единовременности своего начала и по своим взаимным отношениям, служат образом Отца, Сына и Святого Духа, совечных, собезначадьных, равночестных, единоестественных».
Недостаток последних аналогий в том, что три их составляющих - не самостоятельные личности, как Три Лица Святой Троицы, а только силы человеческой природы. Святой Иларий предупреждает: «Если мы, рассуждая о Божестве, употребляем сравнения, пусть не думает никто, что это есть точное изображение предмета. Между земным и Богом нет равенства…» Святитель Григорий Богослов пишет, что сколько бы он ни искал подобия, не нашел, чему можно было бы уподобить Божие естество. «Если и отыскивается малое некое сходство, то гораздо большее ускользает… По примеру других, представлял себе я родник, ключ и поток и рассуждал: не имеют ли сходства с одним Отец, с другим Сын, с третьим Дух Святой? Ибо родник, ключ и поток не разделены временем и сопребываемость их непрерывна, хотя и кажется, что они разделены тремя свойствами. Но убоялся, во-первых, чтоб не допустить в Божестве какого-то течения, никогда не останавливающегося; во-вторых, чтоб таким подобием не ввести и численного единства. Ибо родник, ключ и поток в отношении к числу составляют одно, различны же только в образе представления. Брал опять в рассмотрение солнце, луч и свет. Но и здесь опасение, чтобы в несложном естестве (Божием) не представить какой-либо сложности, примечаемой в солнце и в том, что от солнца; во-вторых, чтобы, приписав сущность Отцу, не лишить самостоятельности прочие Лица и не cделать Их силами Божиими, которые в Отце существуют, но несамостоятельны. Потому что и луч, и свет суть не cолнце, а некоторые солнечные излияния… В-третьих, чтоб не приписать Богу вместе и бытия и небытия (к какому заключению может привести сей пример); а сие еще нелепее сказанного прежде… Наконец, заключил я, что всего лучше отступиться от всех образов и теней, как обманчивых и далеко не достигающих до истины, держаться же образа мыслей более благочестивого, остановившись на немногих речениях (Писания), иметь руководителем Духа, и какое озарение получено от Него, то, сохраняя до конца, с Ним, как с искренним сообщником и собеседником, проходить настоящий век, а по мере сил и других убеждать, чтобы поклонялись Отцу и Сыну и Святому Духу - единому Божеству и единой Силе».
Троичная терминология
Главной задачей богословия в IV веке было выразить в точных понятиях учение Церкви о Триединстве Бога. В библейском тексте, как оказалось, нет соответствующих слов для выражения тройческой тайны. Впервые это особенно остро почувствовали православные отцы в споре с арианами на Первом Вселенском Соборе 325 года. Все библейские выражения о Божестве Сына ариане перетолковывали на свой лад, чтобы доказать, что Сын - не Бог, а творение. Например, православные хотели ввести в определение Собора о Сыне библейское выражение «из Отца», но ариане возразили, что все из Бога, ибо един Бог, из Него же все (1 Кор. 8, 6; см. также: 2 Кор. 5, 18). На слова Послания к Колоссянам, что Сын есть образ Бога невидимого (1, 15), ариане отвечали, что и человек есть образ Бога (1 Кор. 1, 6), и т.д. Необходимо было веру в Святую Троицу выразить такими словами, которые еретики не могли бы истолковать в духе своего учения. Для этого отцы Собора воспользовались не библейскими, а философскими понятиями.
Для обозначения Природы Божества, общей для Трех Лиц, святые отцы выбрали слово «сущность» (греч. - «усия»). Три Лица Святой Троицы имеют одну Божественную Сущность.
Чтобы исключить возможность неверных предположений, будто эта Сущность принадлежит Какому-нибудь из Лиц по преимуществу (например, Отцу) или что Сущность равно или неравно поделена между Лицами, потребовалось ввести еще одно понятие - «единосущный». Оно позволяло с необходимой четкостью выразить тайну Триединства Божества. «Единосущный» означает тождественный (тот же самый по сущности, со-сущностный). Будучи внесенным в Символ Веры, слово «единосущный» определяет Сына как Бога, обладающего той же Сущностью, что и Отец. Вместе с тем, это понятие обладает еще тем достоинством, что косвенно указывает на различие Лиц, потому что единосущным можно быть только с кем-либо другим, а не с самим собой. И все же сильнее этот термин подчеркивает единство, чем различие Лиц.
Чтобы более определенно указать на действительное различие Божественных Лиц, греческие отцы ввели в богословие понятие «ипостась». Оно позволяло обозначить неповторимость, личностный характер каждого Лица Святой Троицы. Греческая философия не знала тайны личности и не имела понятия для обозначения личности. Слово «ипостасис» в греческой литературе было синонимом слова - сущность или существование. Святые отцы изменили значение первого из них. «Ипостась» в богословии означает личность. Таким образом, греческие отцы не просто заимствовали философские термины и переносили их в богословие. Они создали новый богословский язык, «переплавили язык философов», преобразовали его так, чтобы он мог выражать христианскую истину - реальность личности: в Боге и человеке, ибо человек создан по образу Божию.
Личность обладает природой и в определенном смысле свободна по отношению к ней. Ради высших целей личность может идти на страдания и жертвовать своей природой. Так, человек призван достичь богоподобия, то есть он должен с помощью Божией превзойти, преобразовать свою падшую природу.
Заслуга в установлении твердой богословской терминологии в учении о Святой Троице принадлежит святителю Василию Великому. До него богословы разных школ употребляли различные термины, что создавало путаницу и непонимание в среде православно мысливших епископов. Согласно терминологии святителя Василия Великого, «усия» означает сущность, то общее, что объединяет предметы (особи) одного рода, а «ипостась» - частное: личность, конкретный предмет или особь. Например, у Петра, Павла и Тимофея одна и та же человеческая сущность, но каждый из них в известном смысле неповторим, каждый из них уникальная личность - ипостась. Именами Петр, Павел и Тимофей мы обозначаем личности этих людей, а словом «человек» - их сущность.
Если понятия об «усии» (как общем) и об «ипостаси» (как частном) в точности перенести с представления о человеке в учение о Святой Троице, то это привело бы к троебожию, так как человеческие личности, имея одну сущность, живут все-таки обособленно, раздельно друг от друга. Их единство только мыслится. Во Святой же Троице, напротив, Три Ипостаси соединены в реальном единстве нераздельной Сущности. Каждая из Них не существует вне Двух Других. Единосущие Трех Божественных Лиц не имеет аналогов в тварном мире, поэтому понятия о «сущности» и «ипостаси» как «общем» и «частном» перенесены святителем Василием в троическое богословие не в строгом смысле, a c оговоркой, что Сущность Трех Ипостасей абсолютно едина.
Восточным отцам потребовалось немало времени и труда, чтобы доказать Западу правомерность формулы: «единое существо и три ипостаси». Святитель Григорий Богослов писал, что «западные по бедности своего языка и по недостатку наименований не могут различать греческих терминов сущности и ипостаси», одинаково обозначая по-латыни и то и другое как substantia (субстанция). В признании Трех Ипостасей Западу чудился тритеизм, исповедание трех сущностей, или трех богов. Западные богословы учению о Трех Ипостасях предпочитали учение о трех лицах (persona), что, в свою очередь, настораживало восточных отцов. Дело в том, что слово «лицо» в древнегреческом языке означало не личность, а скорее личину или маску, то есть нечто внешнее, случайное. Первым этот терминологический барьер разрушил святитель Григорий Богослов, который в своих сочинениях отождествил слова «ипостась» и «лицо», понимая под ними личность. Только после Второго Вселенского Собора было достигнуто согласование богословского языка Востока и Запада: ипостась и лицо были признаны синонимами.
Следует помнить, что в некоторых догматических сочинениях между терминами «сущность» и «природа» имеется различие. Под Сущностью всегда понимается непостижимая и несообщимая глубина Божества, а Природа - более широкое понятие, включающее в себя Сущность, волю и энергию Бога. В рамках такой терминологии мы можем отчасти познавать Природу Бога, при этом Сущность Его для нас остается непостижимой.
Краткая история догмата о Пресвятой Троице
Церковь выстрадала и отстояла Троичный догмат в упорной борьбе с ересями, низводившими Сына Божия или Святого Духа в разряд тварных существ или же лишавшими Их достоинства самостоятельных Ипостасей. Непоколебимость стояния Православной Церкви за этот догмат обусловливалась ее стремлением сохранить для верующих свободным путь ко спасению. Действительно, если Христос - не Бог, то в Нем не было подлинного соединения Божества и человечества, а значит, и теперь наше единение с Богом невозможно. Если Святой Дух - тварь, то невозможно освящение, обожение человека. Только Сын, единосущный Отцу, мог Своим Воплощением, смертью и воскресением оживотворить и спасти человека, и только Дух, единосущный Отцу и Сыну, может освящать и соединять нас с Богом, - учит святитель Афанасий Великий.
Учение о Святой Троице раскрывалось постепенно, в связи с возникавшими ересями. В центре длительных споров о Святой Троице стоял вопрос о Божестве Спасителя. И, хотя накал борьбы за троичный догмат приходится на IV век, уже с I века Церковь была вынуждена отстаивать учение о Божестве Христа, то есть так или иначе бороться за троичный догмат. Христианское благовестие о Воплощении Сына Божия явилось «камнем преткновения и соблазна» для иудеев и эллинов. Иудеи держались узкого монотеизма. Они не допускали существования «рядом» с Богом (Отцом) другой Божественной Личности - Сына. Эллины поклонялись многим богам, и в то же время их учение было дуалистично. По их убеждению, материя и плоть - источник зла. Поэтому они почитали безумием учить о том, что Слово стало плотью (Ин. 1, 14), то есть говорить о вечном соединении во Христе двух различных природ, Божественной и человеческой. По их мнению, презренная человеческая плоть неспособна войти в соединение с неприступным Божеством. Бог не мог в подлинном смысле воплотиться. Материя и плоть - темница, из которой следует освободиться, чтобы достичь совершенства.
Если иудеи и эллины просто отвергали Христа как Сына Божия, то в христианском обществе попытки рассудочно объяснить тайну Триединства Бога нередко приводили к заблуждениям иудейского (монотеистического) и эллинистического (политеистического) толка. Одни еретики представляли Троицу только как Единицу, растворяли Лица Троицы в единой Божественной Природе (монархиане). Другие, наоборот, разрушали природное единство Святой Троицы и сводили Ее к трем неравным существам (ариане). Православие же всегда ревностно хранило и исповедало тайну Триединства Божества. Оно всегда сохраняло «равновесие» в своем учении о Святой Троице, при котором Ипостаси не разрушают единство Природы и Природа не поглощает Ипостаси, не довлеет над Ними.
В истории троичного догмата различают два периода. 1-й период простирается от появления первых ересей до возникновения арианства и характеризуется тем, что в это время Церковь боролась с монархианством и раскрывала преимущественно учение об Ипостасности Лиц Святой Троицы при единстве Божества, 2-й период - время борьбы с арианством и духоборчеством, коща по преимуществу раскрывалось учение о Единосущии Божественных Лиц.
1. Доникейский период
Профессор А. Спасский пишет, что в доникейскую эпоху мы находим у церковных писателей очень пеструю картину в учении о Святой Троице. Это связано с теми условиями, в которых христианская мысль должна была начинать свою работу. Источником ее, как и в последующие времена, было Священное Писание. Однако оно не принадлежало Церкви в том обработанном и удобном для пользования виде, какой оно получило к IV веку. Изучение Священного Писания еще не достигало высоты, необходимой для всесторонних богословских построений. Экзегетика только зарождалась, не было научно обоснованных методов толкования Священного Писания. По этой причине первые богословы часто впадали в односторонность, опираясь на какое-либо одно, поразившее их, место Священного Писания. Каждый церковный писатель богословствовал на свой страх и риск. Крещальные символы по своей краткости и элементарности были совершенно недостаточны для руководства в богословии. (Профессор В.В. Болотов приводит примеры изложения учения о Святой Троице во II веке в крещальных символах на Западе: «Верую в Бога Отца Вседержителя и во Иисуса Христа, Сына Его единородного, Господа нашего, родившегося и пострадавшего, и во Святого Духа»; на Востоке: «Верую во единого Бога Отца Вседержителя и во единого Господа нашего Иисуса Христа, единородного Сына Его, родившегося от Духа Святого и Марии Девы… и в Духа Святого». В этих символах Церковь указала только то, что Святая Троица открылась в рождении Сына Божия от Марии Девы при содействии Духа Святого. Характер же взаимоотношений Трех Лиц в символах вовсе не раскрывается). «Таким образом, - продолжает профессор А. Спасский, - самые условия, при которых зарождалась богословская мысль христианства, открывали широкую дверь субъективизму в систематизации учения Церкви и делали неизбежным тот индивидуализм в понимании догмата о Троице, какой наблюдается у всех церковных писателей доникейского периода. Поэтому в доникейскую эпоху, строго говоря, мы имеем дело не с церковным учением о Троице, то есть не с таким учением, которое было бы принято и авторизовано самой Церковью, но с рядом мало зависимых друг от друга, своеобразных богословских построений, излагающих это учение с большей или меньшей чистотой и совершенством». По этой причине мы не будем останавливаться на тринитарных теориях данной эпохи. Лишь кратко отметим, что христиане ранней Церкви исповедали веру в Святую Троицу в формуле крещения (Мф. 28, 19), в символах веры, в славословиях и богослужебных песнопениях, но в подробное рассмотрение свойств и взаимных отношений Божественных Лиц не входили. Мужи апостольские в своих писаниях почти буквально повторяли изречения Писания о Лицах Святой Троицы.
Впервые богословствовать о Божественных Ипостасях начали апологеты. В своем учении они нередко слишком тесно связывали рождение Сына с началом творения мира и так или иначе, вольно или невольно, вводили неравенство между Первой и Второй Ипостасями. Субординационные тенденции были весьма сильны в христианском мышлении этого времени, в частности, у Оригена.
Между представителями различных богословских школ имелись расхождения в понимании природы Божества. Не было единства и в используемой терминологии. В одно и то же слово вкладывался часто различный смысл. Все это невероятно осложняло богословский диалог.
Толчком к развитию тройческого богословия послужили ереси. Самыми первыми ересями в древней Церкви были ереси иудействующих (или евионитов) и гностиков. Евиониты были воспитаны на букве Закона Моисеева. Исповедуя Единого Бога, они не допускали существования Божественных Лиц, отрицали Троичность Божества. Христос, по их мнению, не есть истинный – Сын Божий, а только пророк. Учение иудействующих о Святом Духе неизвестно.
Гностики, держась дуализма и считая материю злом, не хотели признать Воплотившегося Сына Божия Богом. Сын, по их мнению, был одним из эонов (порождений) Божественной Сущности. Он временно обитал в человеке Христе, а во время крестных страданий оставил Его, так как Божество не может страдать. Воплощение было только мнимым. Сын не являлся в полном смысле Божественной Личностью. К числу таких же эонов, как Сын, гностики относили и Святого Духа. Таким образом, Троица упразднялась. Учение о Ней подменялось учением об эманации Божественной Сущности. Лжеучение иудействующих и гностиков опровергали христианские апологеты: святой Иустин Мученик, Татиан, Афинагор, святитель Феофил Антиохийский, особенно святой Ириней Лионский (в книге «Против ересей») и Климент Александрийский (в «Строматах»).
Еще более опасной для чистоты церковного учения была ересь II века, известная как монархианство, или антитринитаризм. Монархианство развивалось в двух направлениях - динамистическом и модалистическом.
Динамисты. Представителями динамистического монархианства были александрийцы Феодот Кожевник, Феодот Меняльщик и Артемон. Наивысшего своего развития этот вид монархианства достиг у Павла Самосатского, поставленного антиохийским епископом около 260 года. Он учил, что существует единая Божественная Личность - Отец. Сын и Святой Дух суть не самостоятельные Божественные Личности, а только Божественные силы. (Отсюда название секты, «динамис» по-гречески - сила). В частности, Сын - то же самое в Боге, что в человеке ум, человек перестает быть человеком, если у него отнять ум, так и Бог перестал бы быть Личностью, если от Него отделить или обособить Логос. Логос - это вечное самосознание в Боге. Этот Логос вселился и во Христа, но полнее, чем в других людей, и действовал через Него в учении и чудесах. Христос - лишь облагодатствованный человек. Сыном Божиим Он может быть назван только условно.
Павла обличали, устно и письменно, все знаменитые в то время пастыри Церкви - святитель Дионисий Александрийский, фирмиллиан Каппадокийский, святитель Григорий Чудотворец и др. Против доктрины динамистов было написано «Послание шести православных епископов к Павлу Самосатскому» и собирался ряд Поместных Антиохийских Соборов. Наконец, Павел и его учение были осуждены на Антиохийском Соборе 268 года.
Модалисты. Родоначальниками модалистической ереси были Праскей и Ноэт, главным представителем - Савеллий Птолемаидский, бывший римский пресвитер, живший в середине III века. Суть его учения такова: Бог есть безусловное единство, нераздельная и сама в себе замкнутая и безличностная Монада. От вечности она находилась в состоянии бездействия или молчания, но потом Божество открылось, произнесло Свое Слово (Логос) и начало действовать. Творение мира было первым проявлением Его деятельности, после чего последовал ряд новых действий и проявлений Божества. В Ветхом Завете Бог являлся как законодатель - Бог Отец, в Новом как Спаситель - Бог Сын, а со дня Пятидесятницы как Освятитель - Святой Дух. Эра Духа тоже завершится, и Монада вновь вернется в первоначальное состояние покоя. Существует, следовательно, лишь «Троица» откровений единой Божественной Сущности, но не Троица Ипостасей. Отец, Сын и Святой Дух - только временные образы (модусы), в которые облекается безличностная сама по себе Монада Божества.
Савеллианство получило большое распространение в Александрийской Церкви, особенно в Ливии в 60-х годах III века. Решительным борцом против этого лжеучения был святитель Дионисий Александрийский, осудивший Савеллия на Александрийском Соборе 261 года. Через год Дионисий, епископ Римский, подтвердил это осуждение на Поместном Соборе Римской Церкви и направил ряд посланий против Савеллия.
2. Состояние учения о Святой Троице в IV веке
Четвертый век называют «золотым веком» богословия, ибо в учении святителя Афанасия Александрийского и, особенно, в богословии Василия Великого, Григория Назианзина и Григория Нисского - «троицы, которая славила Троицу», - учение о Триедином Боге обретает свою полноту, завершенность и терминологическую ясность. Поводом для раскрытия догмата о Святой Троице послужили «безумные нападки» арианской ереси.
А. АРИАНСКАЯ ДОКТРИНА
О Боге в Самом Себе Арий учит так же, как Павел Самосатский. Единый Бог абсолютно один. Подобно человеку, Он обладает разумом (Логосом) как неипостасной силой. Основываясь на свойствах вечности и неизменяемости Бога, Арий утверждал, что один Бог не рожден и вечен. Все, что рождается или творится, получает начало во времени. Рождение Сына от Отца, по мнению Ария, подтверждает, что Сын невечен. То есть было такое довременное мгновение, когда Сына не было вовсе.
Он считал, что все, что получает бытие от Бога, иной сущности, чем Бог. В рождении Сына из Сущности Божией Арию, подобно Оригену, мерещились представления о том, что Сын рождается или эманатически (как в учении гностиков), или же в результате разделения Божественной природы. Отвергая то и другое, Арий утверждал, что Сын сотворен.
Из соединения двух указанных идей: 1) Сын невечен; 2) Он не из Сущности Бога - следовала центральная мысль арианской доктрины: «Сын произошел из несущих». Он есть первое, высшее, творение Отца. Отец создал Его Своей волей как посредника для творения мира. Необходимость в таком Посреднике Арий пояснял так: Бог абсолютно запределен миру. Между Ним и миром - непроходимая бездна. Мир просто не выдержал бы прикосновения сверхмощной десницы Божества. Поэтому Бог Сам не может ни творить, ни промышлять о мире непосредственно. Восхотев сотворить мир, Он произвел сначала одно существо - Сына, чтобы при посредстве Его создать все остальное. Сын не есть истинный Логос Отца или Его природный Сын.
Как творение, Сын изменяем. По предвидению Божию, Он «почтен Божеством», наделен Божественной силой, поэтому может быть условно назван «вторым Богом», но не первым.
Вопроса о Святом Духе Арий прямо не касался, однако из его учения о Сыне, по аналогии, следовало, что Дух - высшее творение Сына, как Сам Он - высшее творение Отца. Арий именовал Духа Святого «внуком».
Троичность Бога для Ария невечна. Она возникает во времени. Лица арианской Троицы совершенно неравны друг другу по природе. Это некая убывающая Троица. По точному замечанию святителя Григория Богослова, она есть «общество трех неподобных существ». Протоиерей Г. Флоровский отмечает, что «Арий был строгим монотеистом, своего рода иудаистом в богословии. Для него единый и единственный Бог - это Отец, Сын и Дух суть высшие и первородные твари, посредники в миротворении».
Б. БОРЬБА ЦЕРКВИ С АРИАНСТВОМ И ДУХОБОРЧЕСТВОМ
Арианство было первой ересью, которая потрясла Восточную Церковь. Против ариан созывался целый ряд Поместных Соборов на Востоке и Западе, писались многочисленные богословские трактаты. В своих сочинениях святые отцы не оставили без рассмотрения места Священного Писания, на которые ссылались еретики, чтобы ниспровергнуть веру Церкви в Божественную Троицу. Отцы нашли, что все эти тексты не опровергают Божественности Сына и могут быть объяснены в «благочестивом смысле».
В 325 году в Никее был собран Первый Вселенский Собор. Как только ариане прочли на Соборе свой символ веры, в котором говорилось, что «Сын Божий - произведение и тварь», что было время, когда не было Сына, что Сын изменяем по существу и т.п., отцы Собора немедленно признали арианское учение противоречащим Священному Писанию, исполненным лжи, и осудили ариан как еретиков. Плодом догматической деятельности Собора явился Никейский Символ веры. Учение о Второй Ипостаси звучит здесь следующим образом: «Веруем… во Единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, рожденного от Отца, то есть из сущности Отца, Бога от Бога, Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, не сотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша, яже на небеси и на земли…» К тексту Символа присоединились анафематизмы против главнейших положений учения Ария.
После осуждения арианство не прекратило своего существования. Еще более полувека эта ересь волновала Церковь. Основная причина возникновения страстных споров вокруг Никейского вероопределения состояла в том, что в нем не было достаточно четко выражено различие Лиц Святой Троицы. Термин «единосущный» подчеркивал, прежде всего, Их единство. Сторонников
Никейской веры заподозрили в савеллианстве, то есть в слиянии Лиц Святой Троицы, и большая часть епископов Востока отступила от употребления Никейского определения во имя прежних и привычных выражений церковного предания. Наиболее активными «антиникейцами» были евсевиане, державшиеся субординатизма Оригена и поставлявшие Сына ниже Отца. К ним примыкали уже действительные еретики, считавшие Сына творением. Арианство раскололось на несколько течений. Среди еретиков были и более умеренные, которые, признавая Божество Сына, отвергали Божество Святого Духа. К этим так называемым полуарианам, или духоборам, относилась группа македонских епископов. Таким образом, фронт антиникейской оппозиции был широким и, при неясности имевшейся богословской терминологии, среди православных епископов возникала атмосфера подозрительности и враждебности. По рассказу церковного историка Сократа, сделав слово «единосущный» предметом своих бесед и исследований, епископы возбудили между собой междоусобную войну, и эта война «ничем не отличалась от ночного сражения, потому что обе стороны не понимали, за что бранят одна другую». Одни уклонялись от слова «единосущный», полагая, что принимающие его вводят ересь Савеллия, и потому называли их хулителями, как бы отрицающими личное бытие Сына Божия. Другие, защищавшие единосущие, думали, что противники их вводят многобожие, и отвращались от них, как от вводителей язычества».
В результате долгой и напряженной борьбы, осложненной вмешательством императорской власти и интригами ариан, восточные епископы убедились, что никакое другое вероизложение, кроме Никейского, не может быть достаточным для выражения православной веры. В разъяснении смысла понятия «единосущный» состоит заслуга святителя Афанасия Александрийского. В свою очередь, каппадокийские отцы определили различие терминов «сущность» и «ипостась», а также дали точное определение ипостасных свойств Лиц Святой Троицы.
Церковь особо почтила заслуги святителя Григория Назианзина, удостоив его звания «Богослова». В своих словах о богословии он с особой глубиной и силой поэта воспел Божественную Троицу, в Которой все «Три суть едино… Единица в Троице поклоняемая, и Троица в Единице возглавляемая, вся царственная, единопрестольная, равнославная, премирная и превысшая времени, несозданная, невидимая, неприкосновенная, непостижимая».
Трудами этих отцов Церкви был подготовлен Второй Вселенский Собор, состоявшийся в 381 году в Константинополе. На нем православными были признаны епископы, исповедавшие Божество Сына и несотворенность Святого Духа. Вместе с арианами разных партий осуждению подверглись, в частности, евномиане и 36 епископов-македонян, не пожелавших признать, что Святой Дух - не творение. Православное учение о Святой Троице было запечатлено в Никео-Константинопольском Символе веры.
Из шести членов этого Символа, относящихся ко Второй Ипостаси, первый говорит об онтологической связи Сына с Отцом, а остальные пять - о деле спасения мира Иисусом Христом.
Сын Божий исповедуется Единым и Единородным, чем отвергается еретическое (в частности, динамистическое) учение об усыновлении Иисуса Богом как простого человека. Сын един со Отцом и является Сыном Божиим по природе, а не по благодати.
Мы исповедуем Сына, «рожденного прежде всех век». Это утверждение о вечности Сына направлено против ариан, учивших, что «было время, коща Его не было».
Против ариан направлены слова: «рожденна, несотворенна, единосущна Отцу». Первыми двумя словами опровергается арианское учение о тварности Сына, а последнее определяет сущностное единство Отца и Сына.
В этом Символе опущено никейское выражение, утверждающее, что Сын рождается «из сущности Отца». Термин «единосущный», вошедший в оба вероизложения, означает совершенное тождество сущности Отца и Сына, поэтому выражение «из сущности Отца» создавало определенные терминологические трудности. Впрочем, сами никейские отцы, в частности, святитель Афанасий Александрийский, не видели никакого противоречия между выражениями «из сущности» и «единосущный». Для них эти высказывания говорили об одном и том же, хотя и с несколько разных сторон: «из сущности» означало, что Сын рождается не по воле Отца и не является творением, сущность Сына Божественна; а термин «единосущный» подчеркивал полное единство и равенство по Сущности Отца и Сына.
Краткое определение Никейского Символа о Святом Духе: «Веруем… и во Святаго Духа» - отцы Константинопольского Собора значительно дополнили, и оно стало читаться так: «…И в Духа Святаго, Господа Животворящего (указывает, что Дух нетварен), Иже от Отца исходящего (т.е. Дух имеет бытие не через Сына), Иже со Отцем и Сыном споклоняема и сславима (указание на равночестность Святого Духа Отцу и Сыну, на то, что Дух - не служебное существо), глаголавшего пророки».
После Второго Вселенского Собора Православная Церковь хранила в неповрежденности догмат о Божественной Троице.
Дальнейшее уклонение от истинного учения о Триедином Боге возникало уже в неправославной среде. Так, среди монофизитов в VI-VII веках возникли ереси тритеизма (требожия) и тетратеизма (четыребожия).
Тритеисты отождествляли в Боге существо и Лицо. Они говорили, что Три Божественные Лица суть и Три Божественные сущности, отдельные и самостоятельные, а единство Святой Троицы они понимали, как мыслимое обобщение, как родовое понятие. Так, поясняли они, общая природа трех людей только мыслится, а реально существуют только индивидуумы. Тетратеисты же, кроме Трех Лиц в Троице, представляли еще стоящую как бы позади и отдельно от Них Божественную сущность, в которой все Они участвуют, почерпают из нее свое Божество.
В XI веке при папе Венедикте VIII учение о Святой Троице было искажено Римской Церковью введением догмата об исхождении Святого Духа от Отца и Сына (филиокве). Впервые идею о филиокве высказал Блаженный Августин. В VII веке это учение распространилось в Испании, где было принято на Толедском Соборе 589 года. В VIII веке оно проникло во Францию и было утверждено на Соборе в Ахене. В XI веке - введено в самом Риме.
Антитринитарное учение пытались возобновить протестанты. Михаил Сервет (+1604 г.) в Троице видел всего лишь троицу Откровений. Он считал, что Бог по природе и по ипостаси один, а именно Отец, Сын и Дух - только Его различные проявления, или модусы. В этом учении возобновлена савеллианская ересь. Социн так же не мог примирить Троичность Лиц в Боге с единством Его существа. Он признавал, что в Боге - одно Божественное Лицо (Отец). Сын не есть самостоятельная Божественная Ипостась, а только человек. Сыном Божиим Он может быть назван не в собственном смысле, а в каком сынами Божиими называются и все верующие. По сравнению с другими Он только по преимуществу возлюбленный Сын Божий. Дух Святой есть некоторое Божественное дыхание или сила, действующая в верующих от Бога Отца через Иисуса Христа. Здесь возрождено динамистическое монархианство. В арминианстве повторился древний субординационизм. Яков Арминий (+1609 г.), основатель секты, учил, что Сын и Дух ниже Отца по Божеству, так как от Него заимствуют Свое Божеское достоинство. Эммануил Сведенборг (+ 1772 г.) возобновил патрипассианские воззрения (о воплощении Отца). Он учил, что существует только один Бог. Он принял человеческий образ, подверг себя страданиям и крестной смерти и через все это освободил человечество от власти адских сил.
Попытки представителей идеалистической философии Фихте, Шеллинга, Гегеля и других рассудочно уяснить сущность догмата о Святой Троице приводили к тому, что данный догмат истолковывался в пантеистическом смысле. Для Гегеля, например, Троица есть абсолютная идея в трех состояниях: идея сама в себе (отвлеченная идея) - Отец, идея, воплощенная в мире, - Сын и идея, знающая себя в человеческом духе, - Святой Дух (таким образом, смешивалась нетварная Божественная природа и тварная человеческая).
Троичный догмат - это великая тайна Откровения. Опыт истории показывает, что если человек, не будучи просвещен свыше светом благодати, дерзнет богословствовать, то неизбежно впадает в заблуждение. «Говорить о Боге - великое дело, но гораздо больше - очищать себя для Бога». Таков законный путь познания тайны Святой Троицы, ибо неложен Сын Божий, сказавший: «Кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим» (Ин. 14, 23).
Основные свидетельства откровения о троичности Бога
1. Свидетельства Ветхого Завета
Впервые термин «Троица» введен в богословие апологетом II века святителем Феофилом Антиохийским, но это не означает, что до того времени Святая Церковь не исповедовала троичной тайны. Учение о Боге, Троичном в Лицах, имеет основание в Писании Ветхого и Нового Заветов. Однако в ветхозаветные времена Божественная Премудрость, приспосабливаясь к уровню восприятия еврейского народа, склонного к многобожию, открывала, прежде всего, единство Божества.
Святой Григорий Богослов пишет: «Ветхий Завет ясно проповедовал Отца, а не с такой ясностью Сына; Новый открыл Сына и дал указание о Божестве Духа; ныне пребывает с нами Дух, даруя нам яснейшее о Нем познание. Небезопасно было прежде, нежели исповедано Божество Отца, ясно проповедовать Сына, и прежде, нежели признан Сын (выражусь несколько смело), обременять нас проповедью о Духе Святом, и подвергать опасности утратить последние силы, как бывало с людьми, которые обременены пищей, принятой не в меру, или слабое еще зрение устремлять на солнечный свет. Надлежало же, чтобы Троичный свет озарял просветляемых постепенными прибавлениями, поступлениями от славы в славу».
Тем не менее прикровенные указания на троичность Божества имеются в ветхозаветных текстах. Например, перед сотворением человека Бог говорит о Себе во множественном числе: «Сотворим человека по образу Нашему и по подобию» (Быт. 1, 26) - и далее в той же книге Бытия: Вот, Адам стал как один из Нас (Быт. 3, 22) … сойдем же и смешаем там язык их (Быт. 11, 7). Согласно этим текстам, Лица Святой Троицы как бы советуются между Собой, прежде чем предпринять нечто важное относительно человека.
Вторая группа свидетельств указывает на Три Лица. Более ясное свидетельство о троичности Бога усматривается в явлении Аврааму Бога у дуба мамврийского в виде трех мужей, которым Авраам, по толкованию Блаженного Августина, поклонился как Единому. И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер (свой), во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот, три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер (свой), и поклонился до земли, и сказал «Владыка! Если я обрел благоволение пред очами Твоими, не пройди мимо раба Твоего (Быт. 18, 1-3). Хотя некоторые святые отцы (мученик Иустин Философ, святой Иларий Пиктавийский, Блаженный Феодорит, святитель Иоанн Златоуст) полагали, что Аврааму явился только Сын Божий в сопровождении двух Ангелов, однако Святая Церковь, последуя мнению святителей Афанасия Великого, Василия Великого, святителя Амвросия и Блаженного Августина, все же считает, что патриарх Авраам удостоился преобразовательного видения Пресвятой Троицы. Последнее мнение нашло отражение в церковной гимнографии и иконографии («Троица» преподобного Андрея Рублева).
Другое общее указание на тайну Святой Троицы святители Афанасий Великий, Василий Великий и другие отцы видели в троекратном воззвании Серафимов к Богу: «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф». При этом пророк слышал голос Господа, говорящего: «Кого Мне послать? И кто пойдет для Нас?» (множ. число!) (Ис. 6, 3,8). Параллельные места Нового Завета подтверждают мысль о том, что пророк Исаия удостоился откровения именно Божественной Троицы. Апостол Иоанн пишет, что пророк видел славу Сына Божия и говорил о Нем (Ин. 12, 41); а Апостол Павел дополняет, что Исаия слышал глас Святого Духа, Который посылал его к израильтянам (Деян. 28, 25-26). Таким образом, Серафимы троекратно славословили Царственную Троицу, избравшую Исаию на пророческое служение.
Третью группу составляют свидетельства о конкретных Лицах Святой Троицы. Так, об Отце и Сыне говорится в Книге Псалмов: «Господь сказал Мне: «Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя» (Пс. 2, 7) - или: «Сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня… из чрева (Отца) прежде денницы… рождение Твое» (Пс. 109, 1, 3). О Третьем Лице Святой Троицы возвещается: «И ныне послал Меня Господь Бог и Дух Его» (Ис. 48, 16) - и в пророчестве о Мессии: «Почиет на Нем Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия» (Ис. 11, 2).
2. Свидетельства Нового Завета
Троичность Лиц в Боге ясно проповедуется после Пришествия Сына Божия и составляет одну из основных истин Евангельского Благовестия: Отец послал в мир возлюбленного Сына, чтобы мир не погиб, но имел Источник Жизни в Духе Святом.
Прежде всего тайна троичности была приоткрыта во время Крещения Господня (Мф. 3, 16-17), отсюда и само Крещение называется Богоявлением, то есть явлением Бога - Троицы. Воплотившийся Сын Божий был крещаем в Иордане, Отец свидетельствовал о возлюбленном Сыне, а Дух Святой почил на Нем в виде голубя, подтверждая истинность гласа Отца (так говорится в тропаре Крещения). С тех пор Таинство Святого Крещения является для уверовавших дверью, открывающей путь соединения с Божественной Троицей, имя Которой знаменуется на нас в день Крещения по заповеди Спасителя: «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф. 28, 19). Это еще одно прямое указание на Триединство Божества. Комментируя данный текст, святой Амвросий замечает: «Сказал Господь: во имя, а не во имена, потому что один Бог; не многие имена: потому что не два Бога, не три Бога».
Свидетельство о Святой Троице содержится в апостольском приветствии: «Благодать Господа (нашего) Иисуса Христа и любовь Бога (Отца) и общение Святого Духа со всеми вами» (2 Кор. 13, 13). Апостол Иоанн также пишет: «Три свидетельствуют на Небе: Отец, Слово и Святьш Дух; и Сии три суть едино» (1 Ин. 5, 7). Последние тексты, говоря о Трех равнобожественных Лицах, подчеркивают личностность Сына и Духа, Которые наравне с Отцом подают дарования и свидетельствуют об Истине.
Многочисленные важные в догматическом отношении новозаветные тексты возвещают об одном или двух Лицах Святой Троицы. В. Лосский, например, полагает, что «зерном», из которого произросло все тройческое богословие, является пролог Евангелия от Иоанна: В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог… (Ин. 1, 1) Отец здесь именуется Богом, Сын - Словом (Логосом), Который вечно был со Отцом и был Богом. Таким образом, пролог одновременно указывает и единство и различие Отца и Сына.
Свидетельства откровения о равенстве божественных Лиц
1. Божество Отца
Христос прославляет Отца, «Господа неба и земли», открывшего Свои тайны незлобивым простецам - Апостолам (Мф. 11, 25). Он учит об Отце, Который так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единародного (Ин. 3, 16); молится о том, чтобы ученики познали Единого Истинного Бога (Отца) и посланного Им Иисуса Христа (Ин. 17, 3).
Апостол также возвещает, что у нас один Бог Отец, из Которого все… (1 Кор. 8, 6) Почти каждое свое послание он начинает словами: «Благодать вам и мир от Бога Отца» (Рим. 1, 7). Он проповедует благословенного Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа - Отца милосердия и Бога всякого утешения (2 Кор. 1, 3). Таким образом, Божество Первой Ипостаси - несомненная истина Откровения. Догмат о Божестве Отца прямо не отвергался даже еретиками, хотя искажался всякий раз, когда искажалось учение о Святой Троице.
2. Божество Сына и Его равенство с Отцом
1. Христос как Сын Божий и Сын Человеческий соединил в Себе две совершенные природы: Божественную и человеческую. О Христе как Воплощенном Боге возвещает Евангелие, взятое в целом. Например, Апостол пишет, что в Воплощении Сына Божия открылась великая благочестия тайна: Бог явился во плоти (1 Тим. 3, 16). Именование Спасителя Богом уже само по себе свидетельствует о полноте Его Божества. С точки зрения логики, Бог не может быть «второй степени» или «низшего разряда», так как Божественная Природа не подлежит умалению или ограничению. Бог может быть только один и всесовершен. Так, Апостол учит, что во Христе обитает вся полнота Божества телесно (Кол. 2, 9). Евангелист Иоанн также возвещает о Божественности Сына: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин. 1, 1). Истинность того, что Христос - сущий над всем Бог, благословенный вовеки (Рим. 9, 5), познает и святой Апостол Фома, когда восклицает Воскресшему: «Господь мой и Бог мой» (Ин. 20, 28). По словам Апостола Павла, Христова Церковь - Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею (Деян. 20, 28), и т.д.
Господь Иисус Христос Сам неоднократно утверждал Свое Божественное достоинство. На слова Симона Петра: «Ты Христос, Сын Бога Живого…» - Он ответил: «Блажен ты, Симон… потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на Небесах» (Мф. 16, 16-17). В Евангелии от Иоанна Христос говорит: «Я и Отец - одно» (Ин. 10, 30). На вопрос первосвященников: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» - Он сказал: «Я» (Мк. 14, 61,62).
2. Равенство первых Двух Ипостасей подтверждается равенством и единством Их сил и действии в мире. Ибо кто познал ум Господень? (Рим. 11, 34) Никто из твари. Сын же дерзновенно учит о Своем всеведении: «Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца» (Ин. 10, 15); «никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть» (Мф. 11, 27).
Воля Сына едина с волей Отца, поэтому «Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего: ибо что творит Он, то и Сын творит также» (Ин. 5, 19). Эта единая всемогущая воля Божия привела в бытие мир. Мы веруем в «Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли», и в Сына, «Имже вся быша», ибо Сыном создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое… (Кол. 1, 16) После сотворения мира Равнобожественные Ипостаси промышляют о нем. «Отец Мой доныне делает, и Я делаю», - учит Христос (Ин. 5, 17).
Единородный Сын неразлучно пребывает со Отцом и имеет единство жизни с Родителем: как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе (Ин. 5, 26). Святой евангелист Иоанн пишет о Сыне: «Возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам» (1 Ин. 1, 2). Сын - такой же Источник Жизни, как и Отец, ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет (Ин. 5, 21).
Сын равен Отцу. Он являет в Себе всего Отца, поэтому видевший Сына видел Отца (Ин. 14, 9). Все должны чтить Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его (Ин. 5, 23).
3. Наряду с изречениями, подтверждающими Божество Второй Ипостаси, в Писании встречаются тексты, говорящие о подчиненности Сына Отцу. Последние изречения издревле использовали еретики, особенно ариане, чтобы опровергнуть Божество Сына и Его равенство с Отцом. Для правильного понимания этих текстов Писания следует иметь в виду, во-первых, что Сын Божий после Воплощения есть не только Бог, но и Сын Человеческий и, во-вторых, что по Своей Божественной Природе Сын происходит от Отца, Отец является Ипостасным Началом Сына.
В согласии с вышесказанным, «уничижительные» высказывания Писания о Сыне можно разделить на две группы. Первые из них говорят о человечестве Спасителя и по Домостроительству принятой Им на Себя миссии, например: Бог соделал Господом и Христом Сего Иисуса (Деян. 2, 36); (Сын), Которого Отец освятил и послал в мир (Ин. 10, 36); (Христос) смирил Себя, быв послушным даже до смерти (Флп. 2, 8);
Сын страданиями навык послушанию (Евр. 5, 8). Сюда же относятся тексты, в которых Сыну приписывается неведение времени кончины мира (Мк. 13, 32), покорность (1 Кор. 15, 28), молитва (Лк. 6, 12), вопрошение (Ин. 11, 34), преуспеяние (Лк. 2, 52); достижение совершенства (Евр. 5, 9). О Христе говорится также, что Он спит (Мф. 8, 24), алчет (Мф. 4, 2), утруждается (Ин. 4, 6), плачет (Ин. 11, 35), находится в борении (Лк. 22, 44), укрывается (Ин. 8, 59).
Не нуждаясь в молитве как Бог, Он как Сын Человеческий от лица всего человечества приносил молитвы Отцу. Будучи неразлучен с Отцом, Он от лица человеческого рода, отпадшего от Бога через грехи, воззвал с Креста: «Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил» (Мк. 15, 34).
В других текстах Священного Писания подразумевается, что Отец является Ипостасным Началом Сына и Источником всякого действия Святой Троицы, поэтому Христос учит: «Отец Мой более Меня» (Ин. 14, 28); «Господь имел Меня началом пути Своего» (Притч. 8, 22); «Отец… дал Мне» (Ин. 10, 29); «как заповедал Мне Отец, так и творю» (Ин. 14, 31); «Я ничего не могу творить Сам от Себя» (Ин. 5, 30, или говорить (Ин. 12, 49), или судить (Ин. 12, 47) и т.д.
Из других текстов, которые приводили еретики, можно указать следующие. Например, Спаситель говорит: «Восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему и к Богу Моему и Богу вашему» (Ин. 20, 17). Бог - Его Отец по Божественной Природе; Богом же соделался Ему Отец по Домостроительству, так как Сам Сын соделался человеком. (Нам же Бог - Отец по благодати и Бог по естеству).
Апостол именует Сына рожденным прежде всякой твари (Кол. 1, 15) и первородным (Евр. 1, 6), конечно, не в том смысле, что Сын сотворен прежде всякого творения, как полагали ариане, а в том смысле, что рождение Его от Отца безначально.
В другом месте написано, что Сын предаст Царство Богу и Отцу (1 Кор. 15, 24) и Сам Сын покорится Покорившему все Ему (1 Кор. 15, 28). Здесь Апостол говорит о Христе как Главе всего спасенного человечества, от лица которого Сын и предаст все творение Отцу, да будет Бог все во всем (28).
Церковь с самого начала исповедовала Божество Сына. В древних символах веры Христос называется «Сыном Божиим Единородным», «Богом от Бога», «Богом Истинным».
О том же свидетельствуют отлучения ранней Церковью еретиков, отвергавших Божество Сына Божия, и, наконец, показания некоторых язычников и иудеев. Плиний Младший, например, писал к императору Траяну, что христиане воспевают хвалебную песнь Христу как Богу. Неоплатоники Цельс и Порфирий насмехались над верованием христиан в то, что Сам Бог воплотился, страдал и был распят. Иудей Трифон, вопреки христианскому учению, также считал невозможным, чтобы Бог сделался человеком.
3. Божество Святого Духа и Его равенство с Отцом и Сыном
1. Священное Писание именует Духа Святого так же, как Отца и Сына, Богом. Апостол Петр, обличая Ананию, говорил: «Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому? …Ты солгал не человекам, а Богу» (Деян. 5, 3-4). Апостол называет верующих то храмом Божиим, то храмом Духа Святого и этим свидетельствует, что Дух Святой есть Бог. Разве не знаете, что вы храм Божий и Дух Божий живет в вас? (1 Кор. 3, 16) После Воскресения Сам Христос заповедал крестить уверовавших во имя Отца и Сына и Святого Духа. В приветствиях апостольских посланий имя Святого Духа возвещается рядом с именем Отца и Сына (1 Пет. 1, 2; 2 Кор. 13, 13), что, несомненно, подтверждает Божество Третьей Ипостаси.
2. Святой Дух именуется другим Утешителем, не меньшим Сына (Ин. 14, 16-17, 26). Он обладает всеми свойствами Божественной Природы: во-первых, - всеведением: ибо Дух все проницает, и глубины Божий (1 Кор. 2, 10). О том же свойстве Святого Духа возвещает Спаситель, когда говорит апостолам: «Дух Истины… наставит вас на всякую истину… и будущее возвестит вам» (Ин. 16, 13); во-вторых, - всемогуществом, которое открывается в полновластном раздаянии Святым Духом благодатных дарований верующим. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом; иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом; иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же cие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно (1 Кор. 12, 8-11).
Дух непосредственно участвовал в творении мира: Дух Божий носился над водой (первозданной Вселенной) (Быт. 1, 2); - и в творении человека: «Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь», - восклицает праведный Иов (Иов 33, 4).
Со дня Пятидесятницы Дух Святой обитает в Церкви как Освятитель. Он поставляет на служение пастырей Церкви. Так, Апостол говорит: «Внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святыч поставил вас блюстителями (по греч. епископами), пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею» (Деян. 20, 28). Он духовно возрождает человека в Таинстве Крещения и полагает начало спасения, поэтому если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие (Ин. 3, 5). Святой Дух отпускает грехи, ибо по Воскресении Христос говорил Своим ученикам: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся» (Ин. 20, 22-23). Наконец, Дух Святой есть Дух Истины, потому упорное противление истине (как хула на Святого Духа) не простится… ни в сем веке, ни в будущем (Мф. 12, 31-32).
3. Духоборы указывали тексты Священного Писания, в которых, по их мнению, предполагается, что Святой Дух - существо тварное или во всяком случае низшее Отца и Сына. Например, в прологе Евангелия от Иоанна повествуется только о Первых Двух Ипостасях, об Отце и Сыне, через Которого все пришло в бытие (Ин. 1, 1-3). Если все стало быть через Сына, значит, и Дух сотворен Сыном, - рассуждали еретики. Но «у евангелиста не сказано просто «все», а «все, что стало быть», то есть все, что получило начало бытия. Не Сыном Отец, не Сыном и все, что не имело начала бытия», - пишет святитель Григорий Богослов. Нельзя доказать, что Дух имел начало во времени, а поэтому нельзя разуметь Его под словом «все».
В Божественной икономии Лица Святой Троицы действуют в полном единстве, но Дух Святой является третьим, ибо всякое действие Святой Троицы имеет начало в Отце и совершается через Сына в Духе Святом. Дух преемствует в Домостроительстве Сыну, поэтому Христос учит, что Дух Истины от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, - есть Мое; потому Я сказал, что от Моего возьмет (Ин. 16, 14-15). Всеведение, конечно, свойственно всем Трем Лицам (Мф. 11, 27; 1 Кор. 2, 11), но Святой Дух в Откровении действует после Сына, поэтому Христос сказал, что Утешитель не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит (Ин. 16, 13). По этой же причине Святой Дух поставляется обычно третьим при перечислении Божественных Лиц в Писании. Однако имеются исключения из этого правила. Например, в Первом послании к коринфянам Святой Дух поставлен на первом месте (12, 4-6), а в некоторых других текстах - на втором (Тит. 3, 4-6; Рим. 15, 30; Еф. 2, 18; 2 Пет. 1, 21).
По мысли святителя Афанасия Великого, Бог всегда был Троицей, в Которой нет ничего тварного или возникшего во времени, поэтому Дух Святой есть Лицо Божественное.
Изначальная вера Церкви в Божество Святого Духа нашла выражение в древних вероизложениях, например, в символе святителя Григория Чудотворца; в литургической практике; в церковных песнопениях и, наконец, в писаниях древних отцов и учителей Церкви.
Божественные Ипостаси и их свойства
1. Личностность Ипостасей
Восточные отцы в своем богословии шли от Трех Лиц, о Которых возвещает крещальная заповедь (Мф. 28, 19), к учению об Их единстве. При этом они подчеркивали личностность Каждой Ипостаси Святой Троицы.
Личное бытие, бесспорно, совершеннее стихийного и безличностного. Всякая разумная и свободная природа, конечно, личностна. Ошибкой было бы предполагать, что Триединый Бог, сотворивший разумные тварные личности (Ангелов и человека), Сам является неразумной силой или сплетением слепых сил. Божественное Откровение не оставляет сомнений в том, что Ипостаси Святой Троицы личностны.
Личность, будучи сама по себе непостижима, проявляет себя посредством сил, свойственных разумной природе: ума, воли и жизненной энергии. Например, о Первой Ипостаси в Откровении говорится, что Отец знает Сына (Мф. 11, 27); Он так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную (Ин. 3, 16); Отец повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных (Мф. 5, 45), видит тайное и воздает явно (Мф. 6, 6), прощает согрешения (Мф. 6, 14); питает птиц небесных (Мф. 6, 26) и дает блага просящим у Него (Мф. 7, 11). Вышеуказанные действия, безусловно, не могут быть приписаны какой-либо безличностной силе.
Сын Божий есть Ипостась, отличная от Отца и Святого Духа. Сын как особая Личность воплощается (Ин. 1, 14); Он знает и любит Отца (Ин. 10, 15; 14, 31), действует в мире (Ин. 5, 17) и совершает спасение человеческого рода. Евангелист Иоанн именует Сына Словом, Которое изначально было у Бога и было Богом (Ин. 1, 1). Святой Иоанн Дамаскин пишет, что если Бог «имеет Слово, то должен иметь слово небезыпостасное, начавшее быть и имевшее престать. Ибо не было времени, когда Бог (Отец) был без Слова (бессловесным). Напротив, Бог всегда имеет Слово Свое, Которое рождается от Него и Которое не таково, как наше слово - неипостасное и в воздухе разливающееся, но есть ипостасное, живое, совершенное, не вне Его (Отца), но в Нем пребывающее… Которое всегда есть, живет и имеет все, что имеет Родитель».
Дух истины, Который от Отца исходит (Ин. 15, 26), также не является безличной силой или энергией Отца, но существует в Своей собственной Ипостаси как самостоятельная Личность. Христос говорит о Духе как об ином Утешителе (Ин. 14, 16), то есть другой Личности, не меньшей Сына. Перед разлучением с учениками Господь оставил им обетование о том, что Он умолит Отца ниспослать Святого Духа, Который наставит Апостолов на всякую истину и возвестит о будущем (Ин. 14, 16; 16, 8-15). В этих текстах Лица Святой Троицы предстают как различные Личности. Сын дает обетование умолить Отца; Отец благоволит послать в мир Утешителя, Которому, в свою очередь, надлежит обличить мир во грехе, возвестить о правде и суде и прославить Сына. В апостольских писаниях Святой Дух - это Лицо, Которое властно раздает различные духовные дарования (1 Кор. 12, 1-13), поставляет епископов (Деян. 20, 28), говорит устами пророков (2 Пет. 1, 21; Деян. 2, 17-18), то есть действует как Личность. Святой Иоанн Дамаскин пишет, что мы не почитаем Дух Божий «дыханием неипостасным, ибо таким образом мы унизили бы до ничтожества величие Божественного естества… но почитаем Его Силой, действительно существующей, созерцаемой в собственном Ее особенном Личном бытии, исходящей от Отца, почивающей в Слове и Его проявляющей, Которая не может отделяться ни от Бога (Отца), в Котором Она есть, ни от Слова, Которому сопутствует, и Которая не так обнаруживается, чтобы исчезнуть, но, подобно Слову, существует Лично, живет, имеет свободную волю, Сама Собой движется, деятельна, всегда хочет добра, во всяком изволении силой сопровождает хотение и не имеет ни начала, ни конца; ибо ни Отец никогда не был без Слова, ни Слово без Духа».
2. Ипостасные свойства
В Боге мы созерцаем Три Личности, абсолютно тождественные по природе и силам, но различные по образу своего бытия. «Быть нерожденным, рождаться и исходить дает именования: первое - Отцу, второе - Сыну, третье - Святому Духу, так что неслитность Трех Ипостасей соблюдается в едином естестве и достоинстве Божества», - пишет святитель Григорий Богослов. Они равны и едины во всем, «кроме нерожденности, рождения и исхождения», - пишет святой Иоанн Дамаскин. Нерожденность, рождение и исхождение - личные, или ипостасные, свойства Лиц Святой Троицы, которыми Они различаются Друг от Друга и благодаря которым мы познаем Их как особые Ипостаси.
А. НЕРОЖДЕННОСТЬ И ЕДИНОНАЧАЛИЕ ОТЦА
Отличительное свойство Первой Ипостаси - нерожденность - состоит в том, что Отец не происходит ни от какого другого начала. По этому признаку, пишет святитель Василий Великий, Он познается как Личность . Отец имеет, жизнь в Самом Себе (Ин. 5, 26). Таким образом, Отец есть некое средоточие Божественной жизни. Поэтому святитель Григорий Палама учит, что «Отец - Единственная Причина, и Корень, и Источник в Сыне и Святом Духе созерцаемого Божества… (Он) больший Сына и Духа лишь как Причина (Их), в остальном же всем Он с Ними равночестен » . Святой Иоанн Дамаскин пишет о том же: Отец «Сам от Себя имеет бытие и из того, что имеет, ничего не имеет от другого; напротив, Он Сам есть для всех начало - Итак, все, что имеет Сын, и Дух имеет от Отца, даже самое бытие (не по времени, а по происхождению)…»
По выражению восточных отцов, «один Бог, потому что один Отец». Исповедовать единую природу (Божества) - для греческих отцов означает видеть в Отце Единый Источник Лиц, получающих от Него ту же природу (Божества)» . «Когда мы рассматриваем в Боге Первопричину, единоначалие (т.е. Отца)… мы видим Единицу. Но когда мы рассматриваем Тех, в Ком Божество, или, вернее, Тех, Которые Сами Божество, Лица, Которые происходят из Первопричины… то есть Ипостаси Сына и Духа, тогда мы поклоняемся Трем» . Если Христос и Апостолы говорят о Боге, то обычно имеют в виду именно Отца, так как в Нем созерцается единое Начало Божества. Например: всякому мужу глава - Христос, жене глава - муж, а Христу глава - Бог (1 Кор. 11, 3) - или: так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного… (Ин. 3, 16; ср. 17, 3).
«По учению святого Максима Исповедника, - пишет В. Лосский, - именно Отец дает различия Ипостасям «в вечном движении любви». Он сообщает Свою единую природу равным образом и Сыну и Святому Духу, в Которых она пребывает единой и нераздельной, хотя и сообщается различным образом, ибо исхождение Святого Духа от Отца не тождественно рождению Сына от Того же Отца».
Греческие отцы подчеркивали, что свойство нерожденности или единоначалия Отца нисколько не умаляет Сына и Духа. Единоначалием не вводится неравенство, или субординация , в Троицу, так как Сын и Святой Дух обладают всем, что присуще по природе Отцу, кроме свойства нерожденности, которое характеризует не природу, а образ существования Первой Ипостаси. «Отец есть начало и причина Сына и Духа, - говорит святитель Василий Великий, - но природа Отца, Сына и Духа одна и та же и Божество едино» . Им «общи неначинаемость (вечность) бытия и Божественность; но Сыну и Духу принадлежит иметь бытие от Отца», - пишет святитель Григорий Богослов . Отец не был бы истинным Отцом, если бы не мог или не хотел в полноте сообщить Своей природы Сыну и Духу, «ибо нет славы Началу (Отцу) в уничижении Тех, Которые от Него». Именно потому Он и Отец, что в полноте Своей любви целиком сообщает Свою природу Двум Другим . Отец, Сын и Святой Дух суть три различных, но одинаково совершенных Личности. По словам святителя Григория Богослова, ни Один не больше и не меньше Другого, так же как ни Один не раньше и не позже Другого .
«Все, что имеет Отец, имеет и Сын (и Дух), кроме нерожденности, которая означает не различие по сущности или в достоинстве, а образ бытия - подобно тому, как Адам, который не рожден, Сиф, который рожден, и Ева, которая вышла из ребра Адама, ибо она не была рождена, различаются друг от друга не по природе, ибо (все) они - люди, но образом бытия (т.е. происхождения)… Итак, когда услышим, что Отец есть начало и больше Сына (Ин. 14, 28), то должны разуметь Отца как причину», - пишет святой Иоанн Дамаскин .
Вера в единоначалие Отца нашла подтверждение в Символе веры, начинающемся словами: «Верую во Единого Бога Отца». Она засвидетельствована древнейшими символами и евхаристическими молитвами Апостольских Церквей и нерушимо хранится Православной Церковью. Откровение о единоначалии Отца, с одной стороны, не позволяет мыслить в Боге существование некой безличной Сущности, так как именно Отец является Источником «в Сыне и Святом Духе созерцаемого Божества» ; а с другой стороны, утверждает единосущие Трех Ипостасей, так как Сын и Дух целиком владеют той же Сущностью, что и Отец. Таким образом, исповедание монархии Отца позволяет сохранить в богословии совершенное равновесие между Природой и Личностями: в Боге нет ни безличной Сущности, ни Личностей бессущностных или неединосущных .
Б. РОЖДЕНИИ СЫНА И ИСХОЖДЕНИВ СВЯТОГО ДУХА
Рождение от безначального Отца является личным свойством Сына и определяет образ Его предвечного бытия. Исповедуя, что Сын рождается «прежде всех веков», мы, по словам святого Иоанна Дамаскина, показываем, что Его рождение - безвременно и безначально, ибо не из не-сущего приведен в бытие Сын Божий (как учили ариане)… но Он был присно со Отцом и в Сыне, из Которого родился вечно и безначально. Ибо Отец никогда не существовал, когда не было Сына… Отец без Сына не назывался бы Отцом, если бы существовал когда-либо без Сына… и подвергся бы изменению в том, что, не быв Отцом, стал Им, а такая мысль ужаснее всякого богохульства» . На предвечность рождения Сына указывают слова 109 псалма: из чрева прежде денницы … рождение Твое (3).
В Своем рождении Сын неразлучен с Родителем. Он всеща пребывает в недре Отчем (Ин. 1, 18). Отец - в Сыне, и Сын - в Отце (Ин. 10, 38). Природа Божия неделима, неизменна и бесстрастна, поэтому Еди- нородный Сын рождается бесстрастно (вне сочетания или деления) «и непостижимое Его рождение не имеет ни начала, ни конца (и происходит) так, как ведает это один только Бог всяческих. Как вместе существуют и огонь, и свет, из него происходящий, - не прежде огонь, а потом уже свет, но вместе… так и Сын рождается из Отца, никак не отделяясь от Него, но всегда пребывая в Нем» .
Личное свойство Святого Духа состоит в том, что Он не рождается, а исходит от Отца. «Здесь другой образ бытия, так же непостижимый и недоведомый, как и рождение Сына», - пишет святой Иоанн Дамаскин . Как и рождение Второй Ипостаси, исхождение Святого Духа совершается предвечно, нескончаемо и бесстрастно, без отделения от Отца и Сына. Три Божественных Ипостаси нераздельны, как солнце и исходящие от него луч и сияние. Они одинаково вечны. На вопрос ариан, когда родился Сын, святой Григорий Богослов отвечал: «Прежде самого «когда». Если выразиться несколько смелее: тогда же, как и Отец. А когда Отец? Никогда не было, чтобы не был Отец. А также никогда не было, чтоб не был Сын и не быд Дух Святой» . «Они - от Отца, хотя не после Отца» .
Происхождение Сына и Духа не зависит от воли Отца. Святой Иоанн Дамаскин различает действие Божественной воли - сотворение - от действия Божественной природы - рождение Сына и изведение Святого Духа. «Впрочем, - замечает В. Лосский, - действие по природе не есть действие в собственном смысле этого слова, но оно есть само бытие Бога, ибо Бог по Своей природе есть Отец, Сын и Дух Святой» . Не следует представлять происхождение Сына и Духа неким невольным исторжением из Божественной Сущ- ности. В Боге нет ничего бессознательного и не- произвольного . Святой Афанасий Великий говорит, что не все, что совершается не по воле, уже, тем самым, - Против воли. Например, Бог благ не по воле, не требовалось Его волеизволения, чтобы стать таковым. Но Он благ не против воли. Благость - свойство Его Природы . Подобным образом рождение Сына и исхож- дение Духа предшествует всякому волеизволению Бога.
Троичность Бога ничем не обусловлена, она есть первичная данность. В частности, рождение Сына не связано с творением мира. Некогда мир не существовал, но Бог и тогда был Троицей. Для сотворения Вселенной Бог не нуждался в посреднике (которого выдумал Арий). Иначе, по остроумному замечанию святителя Афанасия Великого, для сотворения такого посредника потребовался бы другой посредник. Тогда Бог творил бы одних посредников и творение мира было бы невозможным .
«Что, конечно, различие между рождением и исхождением есть, это мы узнали, но какой образ различия, этого никак не постигаем», - пишет святой Иоанн Дамаскин . Ипостасные свойства (нерожденность, рождение и исхождение) указывают лишь на особые образы бытия Лиц, но не раскрывают самой тайны бытия Ипостасей. Об этой тайне мы можем говорить только апофатически, через отрицание, утверждая вслед за святителем Григорием Богословом, что «Сын - не Отец, потому Отец - один, но то же, что Отец (по Природе). Дух - не Сын. хотя и от Бога, но то же, что Сын (по Природе)» . Действительно, для нас непостижимо, что такое нерожденность Отца или в чем состоит различие между рождением Сына и исхождением Святого Духа. «Уже святитель Григорий Богослов, - пишет В. Лосский, - должен был отклонять попытки определить образ бытия Лиц Святой Троицы: «Ты спрашиваешь, - говорил он, - что такое исхождение Духа Святого? Скажи мне сначала, что такое нерождаемость Отца, тогда, в свою очередь, я, как естествоиспытатель, буду обсуждать рождение Сына и исхождение Святого Духа. И мы оба будем поражены безумием за то, что подсмотрели тайны Божии» . «Ты слышишь о рождении, не допытывайся знать, каков образ рождения. Слышишь, что Дух исходит от Отца, не любопытствуй знать, как исходит» .
Ипостасное свойство не может быть утрачено или стать принадлежностью другого Лица, «ибо свойство (личное) неизменяемо» . Это, в частности, означает, что Сын не может быть Источником Ипостаси Святого Духа, так как одно Начало в Святой Троице - Ипостась Отца. Действительно, Писание ясно свидетельствует, что только Отец является Источником Святого Духа. Так, в последней Своей беседе с учениками Спаситель сказал: «Когда же придет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне» (Ин. 15, 26). Глаголы пошлю и исходит в вышеприведенном тексте имеют, безусловно, различный смысл. Христос обещает в будущем послать Утешителя, Который всегда исходит от Отца. Только Отец является Началом Ипостаси Святого Духа, поэтому Спаситель говорит: «Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя» (Ин. 14, 16). Итак, следует различать вечное исхож- дение Святого Духа от Отца и послание Святого Духа в мир в день Пятидесятницы от Отца по ходатайству Сына. Римо-католическое учение о предвечном исхождении Святого Духа от Отца и Сына не имеет основания в Священном Писании и совершенно чуждо Преданию неразделенной Церкви. Святой Иоанн Дамаскин пишет: «…О Святом Духе говорим, что Он от Отца, и называем Его Духом Отца, но не говорим, что Дух и от Сына, и называем Его Духом Сына, как говорит божественный Апостол: «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его» (Рим. 8, 9), - и исповедуем, что Он и открылся нам, и преподается нам через Сына, ибо сказано: (Иисус) дунул и говорит им (ученикам Своим): «Примите Духа Святого» (Ин. 10, 22) .
Вместе с тем, у некоторых отцов Церкви можно встретить высказывания о том, что Святой Дух исходит От Отца через Сына. Тот же Дамаскин, вслед за Ареопагитом, пишет об Утешителе: «Он также и Дух Сына, но не потому, что из Него, но потому, что через Него из Отца исходит. Ибо один только Виновник (Сына и Духа) - Отец» . Далее он дает следующее определение Третьей Ипостаси: «Бог - Дух Святой - среднее между нерожденным (Отцом) и рожденным (Сыном) и через Сына соединяется со Отцом» .
Утверждение, что Сын является как бы средой, через которую от Отца исходит Святой Дух, принимается Восточной Церковью на уровне богословского мнения. Радикальное отличие этой точки зрения на происхождение Третьего Лица от латинского filioque состоит в том, что здесь Сын не мыслится причиной бытия Святого Духа.
Единосущие Лиц Святой Троицы
Мы именуем Святую Троицу единосущной и нераздельной. О единосущии Ипостасей Святой Троицы неоднократно говорит Священное Писание, хотя сам термин «единосущный» и отсутствует в нем. Так, мысль о единосущии Отца и Сына содержится в словах Спасителя: «Я и Отец - одно» (Ин. 10, 30); «видевший Меня видел Отца» (Ин. 14, 9); «Я в Отце, и Отец во Мне» (Ин. 14, 10). Он есть Сын Отца не по благодати, а по Природе, «ибо кому когда из Ангелов сказал Бог: «Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя»? И еще: «Я буду Ему Отцом, и Он будет Мне Сыном» (Евр. 1, 5) Та же мысль о Его подлинном сыновстве содержится и в других текстах Священного Писания, например: Сын Божий пришел и дал нам (свет и) разум, да познаем (Бога) Истинного и да будем в Истинном Сыне Его Иисусе Христе: Сей есть Истинный Бог и Жизнь Вечная (1 Ин. 5, 20). Или еще: Бог Сына Своего (греч. “идиу” - собственного) не пощадил, но предал Его за всех нас (Рим. 8, 32).
Евангелие именует Спасителя Единородным, а значит, и единосущным Сыном. «И Слово стало плотию… и мы видели славу Его, славу как Единородного от Отца», - пишет святой Апостол Иоанн Богослов (Ин. 1, 14). Там же говорится, что Слово - Единородный Сын, сущий в недре Отчем (Ин. 1, 18; 3, 16). Святой Иоанн Дамаскин поясняет, что Сын называется в Писании «единородным», «потому что Он один от одного Отца рожден единственным образом, ибо никакое другое рождение неподобно оождению Сына Божия и нет другого Сына Божия» . Он - той же Сущности, что и Отец, ибо «рождение в том и состоит, что из сущности рождающего производится рождаемое… творение же и созидание состоит в том, что творимое и созидаемое происходит извне, а не из сущности творящего…» - пишет святой Иоанн Дамаскин .
Что касается Святого Духа, то Сам Господь в крещальной заповеди возвещает единство Духа с Отцом, как необходимый и спасительный догмат (Мф. 28, 19).
«В Своем исхождении, - пишет святитель Григорий Палама, - Он не отделился ни от Отца, как вечно исходящий от Него, ни от Сына, в Котором почивает. Имея «единение неслитное» и «различение нераздельное» со Отцом и Сыном, Святой Дух есть Бог от Бога, не иной Бог - поскольку единосущен Двум Другим, но иной как самостоятельная Личность, как Дух Самоипостасный . Происхождение Святого Духа от Отца (Ин. 15, 26) и владение тем, что сообща принадлежит Отцу и Сыну (Ин. 16, 15), безусловно, подтверждают Его единосущие первым Двум Ипостасям. Не случайно Дух Святой, от Отца исходящий и в Сыне почивающий, в Откровении именуется Духом Отчим (Мф. 10, 20) и Духом Христовым (Рим. 1, 9; Флп. 1, 19). Если Он проницает глубины Божий, которых никто не знает, и находится в не менее тесном общении, чем дух человеческий, с человеком (1 Кор. 2, 10-11), то не может не быть единосущным и равным Отцу и Сыну.
Святой Григорий Богослов поясняет тайну Божественного Триединства с помощью следующего образа: «Божество в Разделенных неделимо, как в трех солнцах, которые заключены одно в другом, одно растворение света» . В полноте общения Каждая из Божественных Ипостасей всецело отдает Себя, Свою природу и обладает всем, что присуще Божеству. Все Мое Твое, и Твое Мое (Ин. 17, 10).
«Святая Троица, - пишет святой Иоанн Дамаосин, - не складывается из трех несовершенных существ, как складывается дом из камня, дерева и железа. Ибо по отношению к дому камень, дерево и железо несовершенны, потому что взятые отдельно не есть дом . В Троице же, напротив, Каждая Ипостась есть Бог и все вместе Они есть Тот же Самый Бог, потому что Сущность Трех Совершенных - едина».
Единосущие не приводит Ипостаси к растворению в безразличии единой Природы. «Неслитность Трех Ипостасей соблюдается в едином естестве и достоинстве Божества… И Три - единое по Божеству, и Единое - Три по личным свойствам, так что нет ни единого в смысле Савеллиевом (нет слияния Лиц), ни трех в смысле нынешнего лукавого разделения (т.е. арианства, рассекавшего Троицу)», - пишет святитель Григорий Богослов . По словам святого Иоанна Дамаскина, Ипостаси Троицы «соединяются, не сливаясь, но совокупно друг с другом сопребывая и друг друга проникая без всякого смешения и слияния, и так, что не существуют один вне другого или не разделяются в сущности, согласно Ариеву разделению. Ибо, чтобы сказать кратко, Божество нераздельно в раздельном, подобно тому, как в трех солнцах, тесно друг к другу примыкающих и никаким расстоянием не разделяемых, - одно и смешение света, и слияние» .
Обобщением ко всему сказанному святыми отцами о Единосущной Троице могут послужить следующие слова святителя Григория Богослова: «Единое Божество не возрастает и не умаляется через прибавления и убавления (от Ипостаси к Ипостаси), повсюду равно, повсюду то же, как единая красота и единое величие неба. Оно есть Трех Бесконечных бесконечная соестественность, где Каждый, умосозерцаемый Сам по Себе, есть Бог, как Отец и Сын и Дух Святой с сохранением в Каждом личного свойства, и Три, умопредставляемые вместе, - также Бог: первое - по причине единосущия, последнее - по причине единоначалия (Отца)» .
Образ откровения Святой Троицы
Совершенно единое по сущности, конечно, едино также по воле, силе и действию (энергии). «Три Ипостаси находятся Одна в Другой взаимно» , - учит святой Иоанн Дамаскин, - и по тождеству Сущности имеют «тождество воли, действия, силы и движения (энергии)» . Святой Иоанн Дамаскин подчеркивает, что следует говорить не о подобии действий Лиц Святой Троицы, но о тождестве, потому что «одна сущность, одна благость, одна сила, одно хотение, одно действие, одна власть… не три подобные, но одно и то же движение Трех Ипостасей, ибо Каждая из Них едина с Другой не менее, как с Самой Собой» . Святитель Григорий Палама пишет, что для Отца, Сына и Святого Духа общи не только «Сверхсущая Сущность, всецело Безымянная, и Неявляемая, и Несообщаемая, но и благодать, и сила, и энергия, и светлость, и царство, и нетление, и, вообще, все то, посредством чего Бог приобщается и соединяется по благодати и со святыми Ангелами, и с человеками» .
Хотя воля, благодать, или энергия, есть нечто общее для Трех единосущных Ипостасей, но первоначальная Причина и Источник всякого волеизволения и действия Святой Троицы - Отец, Который действует через Сына в Духе Святом. Например, святитель Григорий Нисский пишет: «О Божеском естестве дознали мы не то, что Отец Сам по Себе творит что-либо, к чему не прикасается Сын, или Сын… производит что-либо особо без Духа, но что всякое действование, от Бога простирающееся на тварь… от Отца исходит, через Сына простирается и совершается Духом Святым» . При этом никакого промежутка времени в движении Божественной воли от Отца через Сына к Духу, конечно, не существует. Божество превыше времени. Его деятельность едина по Источнику, участию в ней всех Трех Ипостасей и по результату. Так, все Три Лица Святой Троицы участвовали в создании человека, однако мы получили не три жизни, по одной от каждого Лица, но одну от Всех . Святитель Кирилл Александрийский говорит: «Действие несозданной Сущности есть нечто общее, хотя оно и свойственно каждому Лицу… Итак, Отец действует, но через Сына в Духе. Сын действует так же, но как сила Отца, поскольку Он - от Него и в Нем - по Собственной Своей Ипостаси. И Дух действует так же, ибо Он Дух Отца и Сына, Дух всемогущий и всесильный» .
Важно помнить, что образ внутрибожественной жизни несколько иной, чем образ Откровения Святой Троицы в мире. Если рождение Сына и исхождение Святого Духа от Отца совершаются «независимо» одно от другого, то в Божественной икономии (в Откровении) имеется своя вневременная последовательность: Началом или Источником воли и действия является Отец, совершителем - Сын, Который действует посредством Духа Святого. Если об этом забыть, то невозможно будет объяснить, например, такие слова Спасителя: «Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего» (Ин. 5, 19) - и другие подобные этому тексты Писания.
2. Отец все делает через Сына «не как через служебное орудие, но как через естественную и ипостасную Силу», - учит святой Иоанн Дамаскин . Например, свет есть естественная сила огня. Их невозможно разделить. Одинаково верны утверждения: огонь освещает и свет огня освещает, подобным же образом, что Отец творит, то и Сын творит так же (Ин. 5, 19).
По мысли святого Максима Исповедника, среди Лиц Святой Троицы Логос, или Сын, является по преимуществу действующим и творческим Началом в отношении к миру: Отец благоволит. Сын действует, Дух усовершает тварь в добре и красоте. Логос - Творец мира, ибо все через Него начало быть (Ин. 1, 3), и Совершитель нашего спасения . «Восхотела нашего спасения и промыслила, как должно сие совершиться, вся вообще Троица, - пишет святой Николай Кавасила, - а действует не вся вообще. Ибо совершитель есть не Отец и не Дух, а одно Слово, и один Единородный приобщился плоти и крови, и потерпел биения, и скорбел, и умер, и воскрес, чем оживлено естество (человеческое)» . Само имя - Слово (Логос), при- лагаемое к Сыну, есть именование «икономическое», поскольку в Божественном Домостроительстве именно Сын являет Природу Отца , так же, как слово являет мысль. «Видевший Меня видел Отца» (Ин. 14, 9), - говорит Христос. Святитель Василий Великий пишет: «Сын являет в Себе всего Отца, как воссиявший от всей Его славы» .
По мнению отцов Церкви, все ветхозаветные теофании: Ангел, купина, облачный и огненный столпы, Сущий, беседовавший с Моисеем, (ср. Исх. 3, 14 и Ин. 8, 25) и т.д. - были различными явлениями Второй Ипостаси. Сын в Божественном Домостроительстве есть Бог Откровения, во исполнении времен воплотившийся и ставший Богочеловеком.
3. Подобно первым Двум Ипостасям, Святой Дух также является Творцом мира. Он парил над «водами» первозданной Вселенной. Он - Податель жизни творению. Он вдохновлял пророков и в Домостроительстве нашего спасения содействовал Сыну. «Христос рождается - Дух предваряет. Христос крещается - Дух свидетельствует. Христос искушается - Дух возводит Его. Совершает силы Христос - Дух сопутствует. Христос возносится - Дух преемствует», - пишет святитель Григорий Богослов . Утешитель завершает дело Сына на земле. По ходатайству Сына Он приходит в мир.
Божество совершенно неизменно и неподвижно, поэтому, по словам святителя Григория Паламы, Святой Дух посылается в том смысле, что являет Себя в светоносной благодати в день Пятидесятницы. А иначе как мог бы прийти Тот, Кто неотлучен от Отца и Сына? Тот, Кто вездесущ и все Собой наполняет? Он является не по Сущности, ибо никто Естества Божия не видел и не изъяснил, но по благодати, силе и энергии которые общи Отцу, Сыну и Святому Духу . Утешитель нисходит и навеки соединяется с Церковью в лице апостольской общины.
Дух приходит в «мир сей» не как подчиненная или безличностная сила. Будучи Самоипостасным и равночестным Первым Двум Ипостасям, посылаемый Ими, Он, по выражению святителя Григория Паламы, «Сам от Себя приходит» (т.е. по Своей воле) и становится видимым в огненных языках Пятидесятницы. Таким образом, явление Святого Духа в мир есть общее дело Святой Троицы .
Со дня Пятидесятницы Утешитель пребывает в Церкви. Прежде всего Он, а никто другой, соединяет нас со Святой Троицей посредством благодати. Он является Освятителем твари. В стяжании благодати Святого Духа состоит цель христианской жизни. Конечно, благодать свойственна Божественной Природе, а значит, всем Трем Лицам, но Дух Святой есть Тот, Кто сообщает благодать. Нет никакого дара, который нисходил бы на творение без Духа Святого, учит святитель Василий Великий .
Если всякое действие Святой Троицы, в том числе и призвание человека ко спасению, простирается от Отца через Сына в Духе Святом, почему Христос и говорит: «Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец» (Ин. 6, 44), - то познание Бога человеком совершается в обратном порядке: Духом Святым мы познаем Сына, а через Сына познаем Отца, ибо никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым (1 Кор. 12, 3). И видевший Сына видел Отца (Ин. 14, 9).
Как было сказано выше, во всех действиях в мире Лица Святой Троицы проявляют Себя в полном единстве. Относя известное действие к какому-либо Лицу по преимуществу, мы не исключаем из этого действия других Лиц . «Освящает, животворит, просвещает, утешает и все подобное производит одинаково Отец и Сын и Дух Святой. И никто да не приписывает власть освящения исключительно действованию Духа, слыша, что Спаситель говорит Отцу об учениках: «Отче Святый! Соблюди их во имя Твое» (Ин. 17, 11). А также и все прочее равно Отцом и Сыном и Духом Святым действу ется в достойных: всякая благодать и сила, путеводство, жизнь, утешение, преложение в бессмертие, возведение в свободу и, ежели есть, другое какое благо, нисходящее из нас», - пишет святитель Василий Великий . Каждое из Лиц действует совместно с Двумя Другими, хотя и особым образом: Сын воплощается, но как посланный Отцом и вочеловечивается с содействием Святого Духа. Дух Святой нисходит в мир, но от Отца, по ходатайству и во имя Сына. Так, по мысли митрополита Московского Филарета (Дроздова), любовь Триединого Бога к человеку открылась в тайне Креста как «любовь Отца - распинающая, любовь Сына - распинаемая, любовь Духа - торжествующая силой крестной» .
Энергии Святой Троицы суть вечное самооткровение Божества. Они не обусловлены миром. Бог от века есть Любовь, Истина и Жизнь. Писание возвещает об Отце, Который любит Сына (Ин. 5, 20), о Сыне, любящем Отца (Ин. 14, 31), и Святом Духе как Духе любви (Рим. 5, ‘5). Это помогает нам уяснить образ Божественного бытия до начала творения, в вечности.
Святитель Григорий Палама пишет, что после сотворения мира Бог возвращается «в Свою высоту», возвращается к Своему вечному, «безначальному делу». Это «безначальное дело» Бога «без упокоения» состоит не только в видении Богом всего сущего, не только в Его предвидении будущего, но и в вечном троическом природном «движении». Бог безначально движется в созерцании Самого Себя. Это «созерцание» и «возвращение Бога к Самому Себе» есть неизреченное общение в любви Трех Божественных Ипостасец, Их взаимопроникновение, существование Друг в Друге . Вне догмата о Святой Троице невозможно было бы указать в вечности предмет Божественной любви.
Извечное сияние, сила и полнота жизни Трех Ипостасей, сверхъединству Которых нет именования, открываются в мире как любовь. Поэтому, достигая любви, мы каждый в свою меру восходим к познанию образа превечного бытия Святой Троицы. Любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога (1 Ин. 4, 7).
Человек призван к участию в Божественной жизни. Эта вечная жизнь состоит в любви, поэтому любовь к Богу и ближним - единственный путь соединения со Святой Троицей. Так смыкаются высшее христианское ведение о Боге (тройческое богословие) и христианское нравоучение. Заповедь о любви получает силу в догмате о Святой Троице, а сам догмат уясняется по мере исполнения заповедей, по мере возрастания в любви, по мере богоуподобления. Как справедливо отмечает В. Лосский, для Православной Церкви Пресвятая Троица - непоколебимое основание христианской религиозной мысли, благочестия, духовной жизни и духовного опыта. «Именно Ее ищем мы, когда ищем Бога, когда ищем полноту бытия, смысл и цель своего существования» . «Бог един по существу и троичен в Лицах, Которые единосущны и равны между Собой: позаботимся же тройственный состав нашего существа (дух, душу и тело) и главных сил (разум, волю и чувство) привести к равенству, единству и согласию, в этом задача нашей жизни и наше блаженство», - призывает архимандрит Иустин .
Примечания
Св. Иоанн Дамаскин. Цит. соч. Кн. I. Гл. VIII. С. 169.
Там же. С. 67.
Св. Григорий Богослов. Слово 31 // Творения. Ч. 3. С. 94.
Св. Иоанн Дамаскин. Цит. соч. С. 172.
Св. Григории Богослов. Слово 31 // Творения. Ч. 3. С. 90.
Св. Иоанн Дамаскин. Цит. соч. Кн. I. Гл. VIII. С. 173-174.
Св. Григорий Богослов. Слово 40, на Святое Крещение // Творения. Ч. 3. С. 260.
Св. Иоанн Дамаскин. Цит. соч. Кн. I. Гл. VIII. С. 172.
Там же.
Там же. С. 173.
Св. Григорий Палама. Исповедание веры.
Св. Григории Нисский. Творения. М., 1862. Ч. 4. С. 122.
Проф. И.В. Попов. Конспект лекций по патрологии. Сергиев Посад, 1916. С. 197.
В. Лосский. Мистическое, богословие. С. 46.
Св. Иоанн Дамаскин. Цит. соч. С. 171.
Проф. С.Л.Епифанович. Преп. Максим Исповедник и визан- тийское богословие. Киев, 1915. С. 45.
Св. Николай Кавасила, архиеп. Фессалоникийский. Семь слов о жизни во Христе. Слово второе. М., 1874. С. 33; Ср.: Слово третье. С. 67.
Св. Григорий Богослов. Слово 30 // Творения. Ч. 3. С. 81.
Св. Василий Великий, Против Евномия. II, 17 // Творения. Ч. 3. С. 73.
- Богоявление.
Св. Григорий Богослов. Слово 31, о Святом Духе // Творения. Ч. 3. С. 165.
Св. Григорий Палама. Исповедание веры.
Там же.
Св. Григорий Палама. Исповедание веры.
Прот. Г. Флоровский. Восточные отцы IV века. С. 87-88.
Проф. А.А.Спасский. Цит. соч. С. 306-307.
Св. Василий Великий. Творения. Сергиев Посад, 1892. Ч. 7. С. 25.
Митр. Московский Филарет. Слова и речи. Т. I. С. 90.
Архим. Амфилохий (Радович). Цит. соч.
В. Лосский. Мистическое богословие. С. 38.
Архим. Иустин. Цит. соч. Ч. 1. С. 138.
В каноне Нового завета нет ни единого эпизода, который можно было бы понять в смысле выражения в нём каких бы то ни было догматических разногласий между Христом и апостолами — с одной стороны, и иудеями и раввинатом — с другой стороны.
На вопрос о первой заповеди Иисус даёт прямой ответ: «Господь НАШ (выделено нами: Иисус не отделяет себя от людей по отношению к Богу) есть Господь единый…» (Марк, 12:29). Спрашивающий соглашается с Христом: «Один есть Бог и нет иного, кроме Его» , и Иисус, коему открыта собеседника (чужая душа — не потёмки, как большинству), говорит ему: «Недалеко ты от Царствия Божия» (Марк, 12:34). Аналогичный эпизод описан у Луки — гл. 10:25 — 37.
В этих эпизодах выражено единство догматических воззрений Христа и некоего книжника (раввина), хотя вопрос книжника создал ситуацию, в которой уместно было бы явить «вершину Откровения» — догмат о Троице, — чтобы он был неоспорим: ведь если Бог что-то решил донести до людей, то никто не остановит Его посланника. Коран, сура 35:2: «Что откроет Бог людям из Своей милости, — для этого не будет удерживающего, что Он сдержит, — тому нет посылающего после Него. Он — всемогущий, мудрый!»
Как явствует из текста Деяний апостолов, уже после ухода Иисуса Христа в мир иной, между иудеями и апостолами также не возникало никаких догматических разногласий. Деяния повествуют: «Стефан же, будучи исполнен Духа Святаго, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога и сказал: вот я вижу небеса отверзтые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога» (Деяния, 7:55, 56). Это сказано перед убийством Стефана, сказано в Духе Святом, но нет ничего подобного «вижу святую Троицу» . Так же и Павел говорит в синедрионе «я фарисей, сын фарисея» (Деяния, 23:6), а фарисеи — сторонники догматически строгого единобожия. И в Первом послании Коринфянам (гл. 8:4) Павел пишет: «Нет иного бога, кроме Единого». Пётр также вразумляет иудеев не о догмате «Троицы», а о том, что «…Бог соделал Господом и Христом Сего Иисуса, которого вы распяли» (Деяния, 2:36); иными словами, Иисус — обетованный Богом Мессия, пришедший поистине, но отвергнутый иудеями по их злонравию и невежеству, вследствие чего им дóлжно покаяться, чтобы не отпасть от религии Бога Истинного. И вопрос о признании или не признании Иисуса Христом Божиим, Мессией — это единственное, что отделяет в вере апостолов и первых христиан иудейского происхождения от их бывших единоверцев.
Единственное место в Новом завете, где почти прямо провозглашается догмат о «Троице», — в православной синодальной Библии: «Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровию и Духом, не водою только, но водою и кровию и Дух свидетельствует о Нём, потому что Дух есть истина. Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух; и сии три суть едино (выделено курсивом нами при цитировании)» (Первое послание Иоанна, 5:6, 7). Стих 5:7 отсутствует в других изданиях: так его нет в Острожской Библии , издания 1581 г., набранной (как утверждается) с рукописной Библии, относимой ко временам Владимира — крестителя Руси; а также его нет в имевшихся у нас западных изданиях Нового завета и, в частности, в «Новой американской канонической (стандартной) Библии» (1960 г.) и в последующих её переизданиях.
Но вопреки всему прямо сказанному Христом и апостолами, догмат о «Троице» — историческая реальность, противопоставляющая христианские церкви и большинство их сект строгой догматике единобожия исторически реальных иудаизма и ислама христианской эры. Если соотноситься с глобальной политикой, то в ней он — одно из средств осуществления принципа «разделяй и властвуй».
Посленикейские церкви постоянно испытывают трудности в объяснении пастве догмата о «Троице». Так профессор-богослов В.Н. Лосский в работе «Очерк мистического богословия» (в сборнике вместе с его же «Догматическим богословием», Москва, 1991 г., рекомендовано к печати Московским патриархатом, с. 35, 36) пишет:
«Непоз-на-ваемость (по контексту, Бога) не означает агностицизма или отказа от Бого-познания. Тем не менее это познание всегда идёт путём, основная цель которого — не знание, но единение, обожение. Потому что это вовсе не абстрактное богословие, оперирующее понятиями, но богословие созерцательное, возвышающее ум к реальностям “умопре-восходящим”. Поэтому догматы Церкви часто представляются нашему рассудку антиномиями , которые тем неразрешимее, чем возвышеннее тайна, которую они выражают. Задача состоит не в устранении догмата, но в изменении нашего ума (выделено курсивом нами при цитировании) для того, чтобы мы могли прийти к созерцанию Бого-открывающейся реальности, восходя к Богу и соединяясь с Ним в большей или меньшей мере.
Вершина Откровения есть догмат о Пресвятой Троице, догмат “преи-мущественно” антиномичный».
В русском языке прижилась идиома «антимонии разводить». В ней значимо то, что народ поменял порядок следования звуков в корне: «анти-МОНИЯ», а не «антиномия». Хотя в греческо-рус-ский словарь мужики, перенявшие слово от «интеллигенции», не заглядывали, но идиома, характеризующая смыслоубийственное мыслеблудие всё же знаменательно обрела сопутствующий ей, ещё более глубокий смысл (анти = против) + (МОНО = один, единый); то есть — противоборство Единому.
Противление Богу свойственно идеалистическому атеизму в иудаизме и христианстве. Они одинаково подразумевают, не оглашая: человек создан Богом и рождается в богопротивном виде. Отсюда для приведения человека в «божеский вид» в иудаизме предписано на восьмой день обрезание. Вследствие него нарушается нормальная физиология мужского организма и нервной системы прежде всего: структуры головного мозга с первых дней жизни ребёнка постоянно забиты обработкой информации, поступающей с рецепторов головки полового члена (не говоря уж о том, что последствия болевого шока сохраняются в психике на всю жизнь). В нормальной же физиологии такая связь (коммутация): «рецепторы — многофункциональные структуры мозга» — всего лишь краткие и редкие эпизоды по отношению к продолжительности жизни, а не постоянный информационный шум, на фоне которого протекает обработка информации головным мозгом.
Апокриф «Евангелие от Фомы» передаёт беседу учеников и Иисуса об обрезании:
«58. Ученики его сказали ему: Обрезание полезно или нет? Он сказал им: Если бы оно было полезно, их отец зачал бы их в матери обрезанными. (…)».
Апостол Пётр, хотя он и не ссылается на Фому или Иисуса, освободил первых христиан от обрезания крайней плоти, следуя знамению: Бог даровал Духа Святого необрезанным (Деяния, 15:6 и ранее — 10:44 — 47, 11:17). Освободив от обрезания первохристиан, Пётр присёк вторжение в нормальную физиологию их нервной системы, тем самым он по существу защитил первохристиан от повреждения ума нарушением их нормальной физиологии.
Это всё иллюстрации к тому, что какой бы смысл ни вкладывал В.Н. Лосский в цитированный фрагмент, но он сказал правду: Задача состоит в изменении ума человека. Постановщиками и хозяевами этой задачи являются общие хозяева иудаизма и исторически реального христианства, навязывающие преимущественно по умолчанию мнение, что человек создан и рождается богопротивным. Но если апостол Пётр пресёк подавление человеческого разума через нарушение физиологии организма обрезанием, то после него хозяева и заправилы библейского проекта задачу подавления и извращения разума стали решать, разрушая нормальную культуру мышления, вводя в неё алгоритмы порождения ошибок, т.е. стали алгоритмически разрушать как процесс, говоря современным языком — «информационными технологиями» , «вершиной» которых и является догмат о «Троице»: «1 = 3 во всей полноте как 1, так и 3».
Догмат о «Троице» навязан, хотя он и несовместим с тем, что:
- Иисус прямо говорит: «Господь Бог наш есть Господь единый» и соглашается с ответом книжника «один есть Бог и нет иного, кроме Его» (Марк, 12:29, 32).
- Иисус прямо отрицает обращение к нему «Учитель Благий» словами: «Что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог» (Лука, 18:18, 19), и эти слова отрицают прямо Никейский символ веры: «2. (…) Бога истинна от Бога истинна».
- Дух Святый прямо назван «дар Божий» (Деяния, 10:45; 11:17, 18:19, 20), что отрицает Никейский символ веры «8. И в Духа Святаго, господа Животворящего…».
Из текста Нового завета явствует, что во времена апостолов многие поддавались искушению и втягивались в предумышленно навязываемые им различными посвящёнными и просто болтунами дискуссии о Боге: о Его существе, «внутренней структуре» Бога, Его взаимоотношениях с тварным Мирозданием и людьми. Втягиваясь в дискуссии безо всякого знания о Боге, и не имея Откровений Свыше, они по отсебятине нагромождали домыслы на вымыслы, привносили в Церковь свойственные многобожию тех лет понятия и мнения, сохранявшиеся в их памяти и после «принятия» ими христианства, без осознания ими каких-либо мировоззренческих границ в их внутреннем мире: между многобожием и идолопоклонством и обретённым Учением Христа и апостолов. И всё это — чуждое Учению Христа — оседало и накапливалось в христианстве уже со времён апостолов. Не без причин же Павел писал: «Но боюсь я, чтобы, как змей хитростью не прельстил Еву, так и УМЫ ВАШИ НЕ ПОВРЕДИЛИСЬ (выделено нами), уклонившись от простоты во Христе» (2 посла-ние Коринфянам, 11:3 и далее до 11:8).
Как видно из приведенного, и апостол Павел, и профессор-«богослов» В.Н. Лосский пишут об одном и том же: об уме человеческом.
Разница только в том, что Павел предостерегает людей, стремящихся к Богу, от повреждений в уме; а чиновники Церкви, рекомендуя переиздание работ иерарха церковной науки В.Н. Лос-ского, советуют изменить Богом данный людям ум — так, чтобы им невозможно было пользоваться. Они не сомневаются нимало ни в здравомыслии самого В.Н. Лос-ско-го, ни в своём собственном, ни в здравомыслии иерархии церквей на протяжении истории, которое явно опровергается глобальным биосферно-социаль-ным кризисом как итогом пастырской деятельности всех после-Никейских церквей, впавших в измышления о «Боге-Тро-ице» безо всяких к тому оснований (о том, что в нём выразилось знамение Ионы-пророка, но уже в глобальных масштабах, что было обетовано через Христа роду лукавому и прелюбодейному, они не задумываются — см. раздел 11.2.1).
И вследствие того, что церкви не вняли предостережению апостола Павла, они, распиная на своём вероучении и догматике души в людях, с детства калечат их разум. В отличие от иудаизма, производящего инвалидов правого полушария (процессно-образ-ное ), христианские церкви производят инвалидов левого полушария (неадекватным становится ассоциативное и дискретно-логическое мышление), тем более ущербных, чем непреклоннее те во мнении, что 3 = 1, а 1 = 3.
В каноне Новозаветных текстов, прошедших цензуру и редактирование, нет ничего подобного оборотам речи современного христианства: «Слава Святой Единосущной и Нераздельной Тро-ице»; «Пресущественной, Пребожественной и Преблагой Троицы»; «Бога-Троицы» и т.п.
Их нет просто потому, что такого рода церковные измышления появились только тогда, когда письменная традиция Нового завета уже обрела устойчивость и её невозможно было отредактировать заново, вложив в уста Христа и апостолов обороты речи, не свойственные выражению ими их миропонимания: это вызвало бы отторжение редакторов от церкви её паствой.
Хронологическая последовательность была такова: Всё подлинное, написанное и продиктованное апостолами и евангелистами было написано к концу I века, после чего оно только изымалось из употребления в церкви теми, кому мешало: так «исчезло» Евангелие Мира Иисуса Христа , не допущенное в канон Нового завета анти-Христианством. Понятие о «Боге-Троице» возникло в конце II века («Большой энциклопедический словарь», Москва, «Советская энциклопедия», 1987 г., с. 1358). По существу оно было внесено в христианство извне.
Понятие о многоипостасном всевышнем боге, воплощающем себя в Мироздании, — атрибут ведической культуры (см. хотя бы «Бхагават-гиту», эпизод явления Арджуне вселенской формы всевышнего Господа Кришной (гл. 11) и иллюстрация к нему в изданиях кришнаитов). Также и христианский догмат о троичности божества в его единстве — в истории не первый.
«Древ-ний, да бу-дет бла-го-слов-ен-но Его Имя, об-ла-да-ет тре-мя Гла-ва-ми, ко-то-рые об-ра-зу-ют лишь од-ну Гла-ву; это и есть то, что есть наи-бо-лее воз-вы-шен-но-го ме-ж-ду воз-вы-шен-ным. И так как Древ-ний, да бу-дет бла-го-слов-ен-но Его Имя, пред-став-ля-ет-ся чис-лом три, то все дру-гие све-то-чи, ко-то-рые ос-ве-ща-ют нас свои-ми лу-ча-ми (дру-гие Се-фи-ро-ты), оди-на-ко-во за-клю-ча-ют-ся в чис-ле три». «Бо-же-ст-вен-ная трои-ца об-ра-зу-ет-ся из Бо-га, Сы-на Бо-жия и Свя-то-го Ду-ха» (В. Шма-ков, «Свя-щен-ная кни-га То-та, Ве-ли-кие ар-ка-ны Та-ро», Мо-ск-ва, 1916 г., ре-принт 1993 г., со ссыл-кой на Зо-гар и Каб-ба-лу, с. 66).
В древнеславянской довизантийской ве-ре, вос-хо-дя-щей к Ве-дам, — трие-дин-ст-во трёх тро-иц: 1) Правь, Навь, Явь (ставшая иудейским Ях-ве — «Яве» звательный падеж); 2) Сва-рог, Све-то-вит (Свен-то-вит: — в ином звучании), Пе-рун; 3) Ду-ша (Ра-зум), Мощь, Плоть (В. Емель-я-нов, «Де-сио-ни-за-ция»).
Развитое учение христианских церквей о «Троице» в близком к современному виде и «тринитарная» — «троицкая» терминология сформировались к концу IV в. (В.Н. Лосский, цитированный сборник, с. 212), уже после Никейского собора, на котором отцы церкви проголосовали, что Иисус — Бог: 218 (или 318 — по другому источнику) — «за», 2 — «против». После Никейского собора, собранного императором Константином, по совместительству верховным жрецом культа Непобедимого Солнца, Римское государство прекратило искоренение утверждённого Собором учения церкви из общества, вследствие чего у отцов церкви появилось время и иные возможности, чтобы профессионально заняться измышлениями, всё более удаляясь от простоты во Христе времён апостолов. Но поскольку эти измышления невозможно было ввести в текст канона Писания без того, чтобы не вызвать этим отток паствы от церкви, а вместе с паствой и отток приношений , то оставалось только принять в церковную традицию, дополнительно к сложившемуся канону Писания, и набор догматически выдержанных измышлений отцов церкви — предание старцев — «святоотеческое предание».
Поэтому только один из не принятых в канон апокрифов — «Евангелие от Никодима», — дошедший до нас в редакции не ранее конца IV в. (судя по упоминанию в его преамбуле императора Восточной Римской империи в 379 — 395 гг. Феодосия Великого; или Феодосия II — в 408 — 450 гг.) имеет заглавие «Деяния Святой Троицы».
В каноне же Писания не появилось ничего из «тринитарной» троицкой терминологии, нарушающей сложившуюся к концу III в. традицию, хотя некоторые фразы и после Никейского собора добавлялись в канон и редактировались так, чтобы их легче было истолковать в смысле принятой догматики и церковных учений, хронологически более поздних, чем традиционное Писание. Примеры тому — упоминавшийся стих 5:7 Первого послания Иоанна и завершение Евангелия от Марка — стихи 16:3 — 16:19.
Догмат о «Троице» — измышления, построенные разрушением целостного контекста при извлечении из него отдельных фраз, что порождает неоднозначность смысла обрывков, возникающих в этом процессе и предстающих в сознании человека в качестве самостоятельных высказываний, таких, как «Я и Отец — одно» (Иоанн, 10:30) и ему подобных: Римлянам, 9:5; Первое послание Тимофею, 3:16; Колоссянам, 2:9 и др. Кроме того, имело место и иносказательное толкование «в духе» того, что сказано прямо, но тоже на основе фрагментарного извлечения из контекста. Так те, кто видит первый в Библии намёк на «Троицу» в явлении Аврааму трёх ангелов ( , гл. 18:1, 2) забывают о развитии этого эпизода (Бытие, гл. 18 и 19 — в целом и 19:1, в частности).
Если бы «тринитарная» троицкая терминология, измышленная отцами церкви к концу IV в., была бы способна наилучшим образом передать и закрепить в культуре общества смысл Откровения Свыше, то ею бы и пользовались и Иисус, и апостолы, и никто не посмел бы и не сумел остановить такого рода их проповеди. Вследствие этого церкви не пришлось бы измышлять троицкую терминологию: она бы унаследовала её от Христа и апостолов в совершенном виде.
Поэтому исторически реально «Догмат о Троице» — не вершина Откровения, как то полагает В.Н. Лосский, а позднейшее самодурственное измышление отцов церкви и заправил библейского проекта, хотя такое воззрение и отрицает мнения всех воцерковленных.
Если не давить человеку на психику авторитетом сложившихся традиций, превозношением над «толпой» иерархов-вероу-чите-лей, толкователей писаний, «святых богословов» после-Апос-толь-ской эпохи, если не разрушать контекст переданного евангелистами и апостолами с целью конструирования анти-МОНИЙ-антиномий, разрушающих интеллект как процесс, то всё осмысленно и однозначно определённо даже в каноне Нового завета:
«… нет иного Бога, кроме Единого. Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ много, — но у нас один Бог Отец, из Которого все, и мы для Него, и один господь Иисус Христос, Которым все, и мы Им. Но не у всех такое знание…» (Павел, 1 Коринфянам, 8:4 — 7).
При этом нельзя забывать, что в контексте Библии Бог — всегда Господь, но Господь — не всегда Бог и не всегда Иисус .
Но вследствие повреждения в новых поколениях «христиан» ума внедрением в детстве авторитетной догматики некогда принятой их предками, в мировоззрении церковников извращены и причинно-следственные обусловленности в Объективной Реальности; и как следствие извращены непосредственное и осмысление ими лексики. В.Н. Лосский «Очерк мистического богословия» начинает словами:
«Мы задались целью рассмотреть здесь некоторые аспекты духовной жизни и опыта Восточной Церкви в их связи с основными данными православного догматического предания. Таким образом термин “мистическое богословие” означает в данном случае аспект духовной жизни, выражающий ту или иную догматическую установку» (с. 8).
В этом тексте В.Н. Лосский — один из многих, кто извращает существо «мистического богословия» не только как термина, но и как объективного явления в духовной жизни: сокровенной от других людей жизни души человека.
Но и само по себе высказывание Григория Синаита знаменательно: Для верующего Богу и не сомневающегося в Его Вседержительности и Милосердной Отзывчивости естественно искать у Бога защиты от разного рода наваждений и устремлений бесовщины к властвованию над человеком, как то и делал Мухаммад ещё до ниспослания ему Корана .
Соответственно такого рода вере Богу и надежде на Него, в Коране рекомендуется:
«А если нисходит на тебя какое-нибудь наваждение от сатаны, то проси защиты у Бога, — ведь Он — слышащий, мудрый» (сура 41:36; аналогично 7:199 (200)); «И скажи: “Господи я прибегаю к Тебе от искушений диаволов, и я прибегаю к Тебе, Господи, чтобы они не явились ко мне!”» (сура 23:99, 100).
И в Коране многократно сообщается, что Бог отвечает молитвам верующих; в частности:
«Он отвечает тем, которые уверовали и творили благое и умножает им Свою милость. А неверные — для них жестокое наказание» (сура 42:25 (26)).
Но в отличии от поучений Григория Синаита, который учит отвергать сопутствующие молитве явления, Коран содержит учение об обоюдосторонней направленности религии: от человека к Богу и от Бога к человеку:
«А когда спрашивают тебя рабы Мои обо Мне, то ведь Я — близок, отвечаю призыву зовущего, когда он позовёт Меня. Пусть же они отвечают Мне и пусть уверуют в Меня, — может быть, они пойдут прямо!» (сура 2:182); «Отвечайте вашему Господу, прежде чем наступит день, которому нет возврата от Бога (Г.С. Саблуков: отсрочки у Бога). Нет вам убежища в тот день и нет у вас отречения! (от совершенного в жизни; от того, что стало достоянием души: — наше пояснение при цитировании)» (сура 42:46 (47)).
Если же молящийся, исполняя рекомендации Григория Синаита и аналогичные им, отвергает сопутствующие его молитве явления, когда воистину они — знак от Бога, отвечающего молитве, то такой молящийся сам, по своему произволу, рвёт свою личностную религию в клочья. Это — одна из разновидностей отступничества от Бога (хотя, казалось бы, человек истово верует), со всеми вытекающими из неприятия Бога последствиями:
«Плох пример тех людей, которые считали ложью Наши знамения: самих себя они обидели » (Коран, 7:176 (177)).
Если же молитве сопутствуют воистину наваждения от сатаны, то:
- либо молитва выражает некоторым образом смысл ложно измышленного вероучения, вследствие чего она обращена не к Богу Истинному;
- либо же человек в прошлом и настоящем позволяет себе лицемерие, строптивость и уклончивость по отношению к исполнению по совести известной ему воли Божией; не отзывчив сам к зову Божьему и упорствует в насиловании Мироздания своей отсебятиной, не внемля ничему, даже Божьему попущению прямого явления ему бесовщины по его молитве.
О властных же притязаниях сатаны в Коране сообщается:
«101 (99). Поистине, нет у него власти над теми, которые уверовали и полагаются на своего Господа. 102 (100). его только над теми, которые избирают его покровителем и которые придают Ему (Богу: по контексту Корана) сотоварищей» (сура 16). «35 (36). А кто уклоняется от поминания Милосердного, к тому мы приставили сатану, и он для него — спутник. 36 (37). И они (шайтаны: по контексту), конечно, отвратят их от пути (истинно Божиего — по контексту), и будут те думать, что идут по прямой дороге» (сура 43). «37 (36). Разве же Бог не достаточен для Своего раба, а они пугают тебя теми, кто ниже Его. Кого сбивает с пути Бог , нет тому водительствующего! 38 (37). А кого ведёт Бог, тому не будет сбивающего. Разве ж Бог не велик, обладатель воздаяния?» (сура 39). «5. Поистине, Бог не ведёт прямым путём того, кто лжив, неверен!» (сура 39). «23 (22). Не делай с Богом другого божества (иными словами: Не боготвори, не обожествляй никого и ничего, ибо Бог — единственный Бог), чтобы не оказаться тебе порицаемым» (сура 17).
Это — кораническое разъяснение причин тех явлений нечисти, с которыми сталкивались в молитве многие христианские подвижники. Троицкая терминология, Никейско-Карфагенский Символ веры и догматика Никейского собора, в соответствии со смыслом Корана, есть уклонение в ложь многобожия — обожествление Иисуса и Духа Святого — знамений в Мироздании Надмирного бытия Божия и Его Вседержительности. И соответственно, в Коране содержатся прямые предостережения:
«169 (171). О обладатели писания! Не излишествуйте в вашей религии и не говорите против Бога: ничего кроме истины (не говорите: — по контексту). Ведь Мессия, Иисус — сын Марии — только посланник Бога, и Его слово, которое Он ниспослал Марии, и Дух Его. Веруйте же в Бога и Его посланников и не говорите: “Троица”. Удержитесь, это — лучшее для вас. Поистине, Бог — только единый Бог. Достохвальнее Он того, чтобы у Него был ребёнок. Ему — то, что в небесах, и то, что на Земле. Достаточно Бога как поручителя! 170 (172). Никогда не возгордится Мессия над тем, чтобы быть рабом Богу, ни ангелы приближенные! 171. А кто возгордится над служением Ему и превознесётся, — тех соберёт Он к Себе всех. 172 (173). Те же, которые уверовали и творили благое, — им полностью воздаст Он их награды и увеличит им от Своей щедрости. А тех, которые превозносились и возгордились, Он накажет мучительным наказанием. И не найдут они себе, помимо Бога покровителя и помощника» (сура 4).
Григорий Синаит — один из многих, кто выразил в слове однонаправленность религий церквей после-Никейских времён, препятствующих Царствию Божию снизойти на Землю людей принятыми ими в вероучения извращениями Единого завета Божиего человечеству, носителями которого каждый в свою эпоху были Моисей, Христос, Мухаммад и многие другие.
Так никейская догматика обратила исторически реальное христианство в тот тип эгрегориальной религии, который обращает молитву в длительный многословный церемониал, в котором не последнюю роль играет энергетическая накачка культового эгрегора и показное перед людьми исполнение церемониального долга «набожности». Этот тип религиозности был обличён ещё во времена проповеди Христа: смотри Матфей, 6:5 — 15. Но он существует и поныне. И в такого рода церемониальной магии пребывают все, кто не относит к себе лично, не в букве писания, не в своде законов и традиций общества, но в Духе — в совести и в конкретном жизненном смысле — слова Благовестия Христова: «Что вы зовёте Меня: Господи! Господи! — и не делаете того, что Я говорю?» (Лука, 6:46).
Как известно из истории, тринитарная, троицкая терминология была измышлена отцами церкви — иерархами, а не паствой — после Христа и после апостолов, которые ею не пользовались. Язык — словесная живая речь и письменность — даны людям Богом и являются частью Объективной Реальности вместе со смысловой нагрузкой (понятийной адресацией) языковых конструкций. Язык — словарь (лексикон) и грамматика — часть Мhры бытия Мироздания. Человек, пользуясь речью, письменностью, имеет возможность искренне ошибаться (фальшивить) и умышленно лгать, уклоняясь от объективной Мhры бытия Мироздания. Но это — ошибки и фальшь в его личностной субъективной мере — по их объективной сути — попытки нарушить объективную Мhру бытия Мироздания своей отсебятиной и принятием в душу наваждений. Такие попытки вызывают реакцию Мироздания, гасящую проявления отсебятины и увлечённость наваждениями в соответствии с объективной Мhрой бытия Мироздания — Предопределением Божьим. И потому в Мироздании далеко не безразлично, какими словами, и в каких речевых оборотах (не забывайте о сквернословии, чертыхании), о чём сказать и написать (включая и особенности того, что принято считать грамматическими и орфографическими нормами ), и указать тем самым себе и другим людям на некое явление во внешнем и/или во внутреннем мире человека.
Тем более это касается молитв, исходящих из Мироздания к Богу. И потому есть разница между личностными религиями и вероучительством Христа и апостолов — с одной стороны и с другой стороны — религиями и вероучительством церквей, измысливших и принявших в употребление троицкую терминологию — слова, которых не произносил Посланник Божий. Сделано это отцами-основателями и иерархами церквей имени Христа вопреки предшествующему Корану Новозаветному предостережению:
«36. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда: 37. ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься» (Матфей, гл. 12).
«Сей есть пришедый водою икровїю, ид[у]xомъ, I[ису]с Х[ристо]с, неводою точїю, но водою икровїю. И д[у]xъ есть свhдhтель-ствuаи, ±ко д[у]xъ есть истина. К[а]ко™ трїе» сuть свhдhте-ль-стu-ющей д[у]х ивода икровь, и трїе» воедно сuть. Аще свhдhтельство ч[е]л[ове]ч[ес]ко прїемлем, свhдhтельство б[о]жїе боле есть»» (1-е Послание Иоанна, 5:6, 7 — по тексту Острожской Библии): над- и подстрочные символы, за отсутствием их в компьютерном шрифте, пропущены и обозначаемые ими пропуски заменены вставками современных букв в квадратных скобках для упрощения восприятия текста читателем, не знающим норм церковно-славянского написания.
Т.е. утверждениями, содержащими взаимоисключающий смысл, которые предлагается принять в совокупности: — наше пояснение при цитировании.
Тем более видение этой смысловой границы стирается во многих языках. Так в английском Господь-Бог — «Lord», но наряду с этим существует и «палата лордов» в парламенте, и «лорды адмиралтейства». Т.е., когда слово «lord» подразумевает Бога, а когда обладание индивида иерархическим статусом — обусловлено, во-первых, контекстом, в котором оказалось это слово, и во-вторых, восприятием контекста читателем или слушателем.
Как уже отмечалось ранее в одной из сносок в первой книге Части 3, значение слова «господство» в современном языке тоже неоднозначно: к его значению — «объективно безальтернативная определённая по своему характеру власть» — в исторической конкретике примешались:
- нравственно обусловленный субъективизм людей в выборе себе персоны на роль «господа» («господина») над собой либо объективно безосновательное признание ими чьих-либо субъективных притязаний на этот статус, осуществляемых в пределах Божиего попущения;
- злоупотребления властью со стороны тех, кто в неком обществе узурпировал статус «господа» («господина») в пределах Божиего попущения.
При таком понимании Бог — всегда объективно Господь, но субъективно избранный господь — далеко не во всех случаях Бог.
Вставка текста в скобках принадлежит о. Родиону.
В.О. Ключевский, «Собрание сочинений в 9 томах» (Москва, «Мысль», 1990), т. 9, афоризмы 1890‑х годов. Также отметим, что В.О. Ключевский имел основания в собственном жизненном опыте для того, чтобы дать именно такую оценку деятельности РПЦ: он не вынес такого «обучения» в пензенской семинарии и ушёл из неё по собственному желанию.
В контексте Корана подразумевается путь, избранный индивидом по своему неправедному произволу. Сбивая его с этого пути, Бог тем самым препятствует воплощению неправедности в жизнь сверх пределов Его попущения.
Грамматика предложений и орфография слов могут идти как от смысла, так и от звучания (фонетики). При этом могут получиться взаимно исключающие нормы письма. Это мы покажем на примере только одного слова. Если следовать нормам Наркомпроса образца 1918 г., упростившего письмо устранением нескольких букв и приблизивших писание к звучанию, то правильно писать «бессмысленный». Если идти от смысла, то встает вопрос: «бессмысленный» это — безсмысленный, т.е. не имеющий смысла? или бhс смысленный, т.е. бhс, преисполненный сатанинского смысла ? Звучит — похоже, но объективные образы и явления — разные.
То есть всех нас в школе учили следовать нормам письма Наркомпроса, в которые заведомо внесена неопределённость мhры, поскольку слово — одна из мhр бытия, данная человечеству. Кроме того, есть понятия, которые затруднительно описать одним словом. Это означает, что поскольку среди знаков препинания отсутствуют знаки направленности понятийных границ, то в сложных предложениях, разные читатели одни и те же слова имеют возможность отнести к разным группировкам слов и понять один и тот же текст по-разному. Если болтать попусту, марать бумагу и иные носители письменной информации, то всё сказанное об орфографических и грамматических нормах, включая и пред-ложение ввести понятийно-разграничительные знаки (например: <поня-тие 1> <понятие 2>) — плод больного воображения. Но если письменность необходима для точного выражения и восприятия смысла, для безопасной работы с матрицами возможных состояний и переходов (объективными мhрами возможного), то России предстоит пройти ещё через одну рефор-му «правильнописания» (если пользоваться лексиконом Винни Пуха), которая сметёт всё наследие Наркомпроса 1918 г., но вряд ли признает и оторванные от живой речи нормы письма, бывшие до 1917 г. и переполненные «ъ» знаками в конце слов, давно утратившими смысловую нагрузку.
Пресвятая Троица — образ бытия единого Бога, основанный на кресто-воскресном принципе Любви.


1. Знакомство с Небесным Отцом
Готовясь к Таинству Причастия, мы должны ясно осознавать, Кто находится в конце Евхаристического Пути. Причастие — это встреча с Отцом через Спасителя, осуществляемая действием Святого Духа. Причастие не ограничено обрядом, совершаемым на Литургии. Причастие — это выстраивание постоянной духовной Вертикали, связывающей сердце человека с сердцем Бога Отца. Непосредственно Вертикалью (её еще называют восходящей «звездой утренней» или «жезлом железным») является Спаситель. Образно говоря, Сын Божий — это «связующие провода», по которым проходит благодатная энергия Святого Духа. Если хорошо понимать эти вещи, то благодать после Причастия действует с особой силой.


В качестве символа духовной вертикали древние христиане использовали образ посоха. Далее, в различных интерпретациях Христограммы, он превратился в букву «Р». Вертикаль-посох символизирует Спасителя, через которого мы постоянно умозрительно соединяем свои сердца с сердцем нашего Небесного Отца. Тем самым осуществляется постоянная евхаристическая (благодарственно-восходящая) связь с Богом. Она открывает врата сердца, делает его способным воспринимать благодать Святого Духа, понимать Божественную Премудрость и вмещать смыслы высокого богословия.

2. Сущность и Жизнь Отца
Человек создан по образу и подобию Бога. Человек — это личность, имеющая тело (сущность) и душу (жизнь). Бог Отец подобен человеку. Поэтому Он, как и мы, является Лицом, имеющим сущность и жизнь.
«В Сыне Своем Бог Отец выражает всю Свою сущность и потому Бог Сын именуется Словом Божиим, Логосом, или Образом Отца. Дух Святой выражает жизнь Бога Отца и потому зовется дыханием Отца, или Духом Отца» (епископ Александр Семенов-Тянь-Шанский «Православный катехизис»).

Сущность и Жизнь Бога Отца нельзя представить: «Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» (Ин. 1:18). В единого Бога Отца нужно просто верить через систему сакральных истин, явленных в Боге Слове и зафиксированных в Звездице.
«Бог (по Своей природе) непостижим, бестелесен, не является ангелом; сущность Его непознаваема; Его нельзя описать в категориях места; Он превосходит всякое определение и образ; Он познается человеком исходя из красоты космоса, из устройства человеческого естества, животного и растительного мира» (свт. Григорий Богослов).
3. Сущность Бога — Ум
По мысли св. Григория Богослова, существо Божие есть «Святая Святых, закрываемая и от самих серафимов». Следуя святому, представлять себя знающим, что есть Бог равнозначно повреждению ума. Он утверждает, что «Божественная природа есть как бы море сущности, неопределенное и бесконечное, простирающееся за пределы всякого понятия о времени и природе».
«Сущность же Божественная едина и проста и не допускает никакой инаковости, но вся она есть Ум и вся — Сущая-в-Себе-Премудрость, ибо ее бытие (как Ума и Сущей-в-Себе-Премудрости), тождественно с бытием как таковым. Ведь и Божественный Максим (Исповедник) утверждает: «Но Сам Бог, Целый и Единственный, есть по сущности мышление, а по мышлению Он, Целый и Единственный, есть сущность». Стало быть, мышление в этом случае тождественно бытию… Итак, применительно к сущности Божией бытие тождественно ведению (знанию) Ею Самой Себя (свт. Феофан Никейский).
4. Любовь Отца
«Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем» (1Ин. 4:16). Бытие Бога — это Любовь. Любовь — это самоотдача. Т.к., Бог Отец существо абсолютное, то и живет Он, отдавая абсолютно всё, что у него есть: целиком всю Свою Сущность и полностью всю Свою Жизнь.

«В предвечном рождении Сына Божия и изведении Святого Духа выражается бесконечная любовь Бога Отца: Отец ничего не хранит для Себя, но все Свое отдает Своему Сыну и Святому Духу. Божественная сущность также происходит от Бога Отца и в этом смысле богословие говорит о “монархии” Бога Отца (от греческого: единственный принцип, или единственное начало). Бог Отец раскрывает Свою сущность и Свою жизнь в подобных Себе двух других Личностях, или Ипостасях» (епископ Александр Семенов-Тянь-Шанский «Православный катехизис»).
5. Рождение и исхождение
Результатом полной отдачи Сущности Бога Отца является рождение Бога Сына. Результатом полной отдачи Жизни Бога Отца является исхождение Бога Святого Духа.
Рождение отличается от исхождения по смыслу происходящего. Рождение потому рождение, что относится к происходящему с сущностью, т.е. с природой Бога Отца. Аналогичным образом происходит рождение человека, когда женщина отдает часть своей природы в виде рождаемого ребенка. Разница в том, что Бог Отец отдает не часть Своей природы, а абсолютно всю её целиком.

«Рождение — безначально и вечно, является делом природы и выходит из Его существа, чтобы Рождающий не потерпел изменения, и чтобы не было Бога первого и Бога позднейшего, и чтобы Он не получил приращения» (ТИПВ).
Исхождение так именуется, потому что относится к происходящему с Жизнью Бога Отца. Аналогичным образом жизнь человека в виде души исходит из тела при его смерти. Разница в том, что Бог Отец при этом «не умирает», не лишается Своей Жизни, т.к. сразу же получает всю её целиком обратно.
Рождение и исхождение происходят не в какой-то последовательности, а одновременно (как показывает Звездица при ее раскрытии): «Сын и Дух происходят «совместно» от Отца, так же как Слово и Дыхание выходят совместно из Божьих уст (Пс. 32:6)» (прп. Иоанн Дамаскин).
«Каппадокийцы будут утверждать рождение Сына от Ипостаси Отца и внутри сущности Отца, подчеркивая таким образом полную передачу Божественной природы Отца Сыну в тайне Его рожде-ния. Все, что принадлежит Отцу, принадлежит и Сы-ну. Так, например, святитель Василий Великий пи-шет: «Ибо все, что принадлежит Отцу, созерцается и в Сыне, и все, что принадлежит Сыну, принадлежит и Отцу; потому что всецелый Сын в Отце пребывает и опять имеет в Себе всецелого Отца, так что Ипостась Сына служит как бы образом и лицом к познанию От-ца; и Ипостась Отца познается в образе Сына» (протопресвитер Борис Бобринский «Тайна Пресвятой Троицы»).
6. Кресто-воскресный образ бытия Бога
Звездица наглядно показывает главную особенность божественного процесса рождения Сына и исхождения Святого Духа. Рассматривать его стоит в динамике. Как только, с одной стороны лучи Звездицы расходятся из центра, с другой — они тут же собираются обратно в центр. Как только Бог Отец целиком и полностью Себя отдает Сыну и Святому Духу, так сразу же Святой Дух и Сын возвращаются в «недро Отчее» (центр Звездицы).
Бог есть Троица, потому что Отец есть Любовь. Бог есть Троица, потому что у Бога Отца троичное сердце (Лицо-Сущность-Жизнь). Отдавая Свое троичное внутреннее, Бог Отец живет троичным внешним — единосущным и триипостасным бытием Пресвятой Троицы. И это троичное внешнее одновременно является внутренним «недром» Бога Отца.
 «
«
Естество в Трех единое — Бог, Единение же — Отец, из Которого Другие, и к Которому Они возводятся, не сливаясь, а сопребывая с Ним, и не разделяемые между Собою ни временем, ни хотением, ни могуществом. Ибо сие нас делает чем-то многим; потому что каждый из нас разногласен и сам с собою и с другими. Но Тем, у Которых естество просто и бытие тождественно, приличествует и единство» (свт. Григорий Богослов, Слово 42).
«От двух Других Лиц Святой Троицы Бога Отца отличает личностное (ипостасное) свойство. Оно заключается в том, что Бог Отец предвечно рождает ипостась Сына и предвечно изводит ипостась Святого Духа. Отец служит ипостасной причиной — связью и единением для Лиц Святой Троицы, ибо Сын и Святой Дух, приемля от Него начало, к Нему же единому и возводятся, как Своему Виновнику» (Олег Давыденков «Догм. Богословие. Курс лекций»).
Возвращение в «недро» Отчей Ипостаси происходит так же одновременно: «По выражению В.Н. Лосского: «Отец тем самым является пределом соотношений, от которых Ипостаси получают свое различение: давая Лицам их происхождение, Отец устанавливает их соотношение с единым началом Божества как рождение и нахождение». Поскольку Сын и Святой Дух одновременно восходят к Отцу как к одной причине, то уже в силу этого их можно мыслить как различные Ипостаси» (Олег Давыденков «Догм. Богословие. Курс лекций»).
7. Ипостась (Лицо)
Звездица — это символьная модель Пресвятой Троицы. Она состоит из центральной части (гайки с винтиком) и расходящимися из центра двумя лучами. Сердце Бога Отца (или «недро Отчее») символизирует центральная часть Звездицы. Гайка — это как бы сущность Отца, винтик — Его Жизнь.
Что же такое Ипостась (или Лицо)? Ипостась — это «гайка с винтиком» Звездицы. Ипостась всегда находится в центре перекрестия Жизни с Сущностью. Поэтому Бог Свое ипостасное бытие определяет формулой «Я есть сущий», т.е. «Лицо-Жизнь-Сущность».

Звездица наглядно демонстрирует фундаментальные принципы ипостасного бытия Пресвятой Троицы. Её центр («недро Отчее») — это гайка с винтиком, символизирующие Сущность с Жизнью. Сами по себе они ипостасью не является. И отдельные лучи Звездицы, символизирующие отдаваемые Сущность и Жизнь, не образуют ипостаси. Ипостась возникает только при соблюдении следующих трех условий:
1. Взаимообусловленность. Ипостасное бытие всегда обусловлено отношениями с другими Ипостасями. Ипостасная жизнь не может быть индивидуальной. Ипостась существует только в динамике перекрестия Сущности и Жизни, получаемых от других Ипостасей и им же отдаваемых.
2. Самоотдача и нераздельность. Сущность и Жизнь, покидающие ипостасный центр, не разделаются друг от друга и не распадаются, т.к. тут же возвращаются обратно.
3. Возвращение и неслиянность. Жизнь и Сущность, возвращающиеся в ипостасный центр, не сливаются в одно и не смешиваются друг с другом, т.к. тут же отдаются двум другим Ипостасям.



Человек создан по образу и подобию Бога и призван стать ипостасным богоподобным существом. Ипостасное богоподобие — это высшая форма тварной жизни, какую воплотил в Себя и Сам Бог Иисус Христос. Сам по себе человек личностью не является. Сам по себе человек — это «гайка с винтиком», невстроенные в систему социальных связей народа. Чтобы индивиду стать Личностью, нужно жить самоотдачей, как живет Бог и как показывает Звездица. Нужно строить социальные связи, отдавать себя всему миру, посвящая свое бытие близким, народу, Церкви, Богу.


Образом ипостасного бытия является момент богослужения, когда во время евхаристического канона священник возносит руки к Небу (по аналогии раскрывающейся Звездицы). Тем самым он становится ипостасным центром богослужебной жизни — предстоятелем перед Богом за весь собравшийся народ. С одной стороны, священник в точку своего сердца собирает молитвы прихожан, с другой — он сам становится олицетворением молитвы и евхаристического (благодарственного) бытия. И он, воздевая руки к Небу, отдает всего себя вместе со всей церковью целиком Богу: «Единство веры и общение Святого Духа испросив, предадим сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу Христу Богу». И хор отзывается: «Тебе, Господи!»


8. Триипостасная жизнь
Триипостасное бытие Бога обусловлено двумя факторами: простотой и любовью. Бог существо наипростейшее. Его бытие сводится к предельно минимальным аспектам. Нельзя существовать без сущности, поэтому у Бога есть сущность. Нельзя существовать, в неживом состоянии. Поэтому у Бога сущность живая. Нельзя быть личностью, без обладания свободным разумом. Поэтому божественная живая сущность является разумной личностью.
Своей божественной премудростью Бог определяет высшим смыслом существования — Любовь. Бог является триипостасным существом, потому что, отдавая целиком то, что есть Бог (живой сущий разум), может получиться только единосущное, триипостасное существо.
Представим, что хлеб, пропитанный вином, это Живая Сущность Бога, являющаяся Божественным Умом. Если Божественный Ум решит жить по любви, то Он отдаст всё, что у Него есть, тому, кто у Него есть: Себя Самого — Сущности и Жизни, свою Сущность — своей Жизни, а свою Жизнь — своей Сущности. В результате получится два ракурса бытия Божественного Ума. С одной стороны, мы сможем посмотреть на жизнь Бога со стороны его Сущности. С другой — на Сущность, со стороны его Жизни. Это равносильно тому, как если мы будем делать заключение о человеке, или по его внешнему виду, или по его биографии: «Для обоих Григориев (Григория Нисского и Григория Богослова) Ипостась является не только отдельно взятым индивидом со своими отличительными признаками, но и реально существующим разумным лицом. Ипостаси суть, таким образом, способы Божественного бытия» (Архимандрит Киприан [Керн]).

Получившиеся два ракурса бытия Божественного Ума являются разумными личностями, т.к. являются тем же, что и изначальный Ум. Разница лишь в иерархической последовательности принципа их бытия: один — это «тело-жизнь», другой — «жизнь-тело»: «Дух во Христе пребывает так же, как Христос в Духе. Не следует сводить это взаимное присутствие, этот со-юз любви к простому «отношению», односторонней причинности. На самом деле, мы здесь предстоим пе-ред неизреченным и совершенным «совпадением» Сына и Духа, тайной взаимной прозрачности, которая не может выразиться на человеческом языке иначе, как в понятиях взаимного и одновременного Открове-ния и любви»(протопресвитер Борис Бобринский «Тайна Пресвятой Троицы»).
9. Жизненный цикл Пресвятой Троицы
«Каждое Лицо Святой Троицы, сохраняя Свою самостоятельность и личное бытие, находится и в двух других и не может быть представлено без Них; все три Лица взаимно проникают друг в друга, живя вечно одно в другом, с другим, для другого» (Св. Иустин Попович).
В бытие Пресвятой Троицы можно условно выделить жизненный цикл, состоящий из трех «шагов Звездицы».
Точка начала. Это состояние сложенной Звездицы, символизирующей все три Ипостаси, собранные в «недре Отчем».

Первый шаг. Раскрытая Звездица символизирует рождение Сына и исхождение Святого Духа. Вторая и Третья Ипостаси получают от Отца бытие.


Второй шаг. Ипостась Сына и Ипостась Святого Духа повторяют унаследованный от Отца кресто-воскресный образ бытия. Происходит взаимообмен Сущности и Жизни. Ипостась Сына передает Сущность Отца — Ипостаси Святого Духа. Ипостась Святого Духа, передает Жизнь Отца — Ипостаси Сына.




Третий шаг. Ипостась Святого Духа возвращает Сущность — Ипостаси Отца. Ипостась Сына возвращает Жизнь — Ипостаси Отца.


С завершением цикла сразу же начинается новый.
Жизненный цикл Пресвятой Троицы длится вечно, без начала, без конца и без фиксации стадий: «Бог есть любовь Сам в Себе, потому что бытие Единого Бога — это существование Божественных Ипостасей, пребывающих между собой в «вечном движении любви (преп. Максим Исповедник).
«Пребывание и утверждение ипостасей одна в другой — ибо они неразлучны и не покидают друг друга, имея взаимное проникновение неслиянно; не так, чтобы они смешивались или сливались, но так, что тесно соединяются между Собою. Ибо Сын есть в Отце и Духе; и Дух — в Отце и Сыне; и Отец — в Сыне и Духе, причем не происходит никакого стирания, или смешения, или слияния. И единство и тождество движения — ибо у трех ипостасей одно устремление и одно движение, чего невозможно усмотреть в сотворенной природе» (ТИПВ).
10. Парадокс единосущия
Отсутствие фактора времени позволяет трём Ипостасям одновременно и по отдельности владеть целиком, и одной Сущностью, и одной Жизнью Бога Отца: «В Божестве она (сущность) в каждый момент и одновременно принадлежит всем Ипостасям и является не логически только постигаемой, но реальной основой Их бытия» (свт. Василий Великий). «Если Отца иногда называют просто «Бог», то тем не менее мы никогда не найдем у Православных авторов терминов, говорящих об единосущности как участии Сына и Духа в сущности Отца. Каждое Лицо — Бог по Своей природе, а не по участию в природе Другого» (В. Лосский «По образу и подобию»).

Единосущность Троицы обусловлена тем, что сущностью Отца ипостаси владеют поочередно. Бытие Бога не подвержено разделяющему фактору времени. Поэтому, не смотря на то, что каждая Ипостась в свою очередь владеет сущностью целиком и полностью, не происходит, ни разделения сущности на три части, ни её умножения на три: «Три Лица Божии единосущны, т.е. каждое Божественное Лицо имеет в полноте ту же сущность и каждое Лицо передает двум другим Свою сущность, выражая этим полноту Своей любви» (епископ Александр Семенов-Тянь-Шанский «Православный катехизис»). «Итак, Божество Единое в собственном смысле, которое не допускает умножения, поскольку Оно есть единство в точном и истинном смысле, можно сказать, по природе созерцаемая тождественность» (Св. Фотий Великий, Константинопольский).
«Выражение «Божество — Источник» или «Источник Божества» не означает того, чтобы Божественная сущность была подчинена Личности Отца, но говорит о том, что Отец дает это общее обладание сущностью, ибо, не будучи единственным лицом Божества, Лицо Отца с сущностью не отожествляется. В известном смысле можно сказать, что Отец и есть это обладание сущностью совместно с Сыном и Духом Святым и Отец не был бы Лицом Божественным, если бы был только монадой: тогда Он отожествлялся бы с сущностью. Если Отца иногда называют просто «Бог», то тем не менее мы никогда не найдем у Православных авторов терминов, говорящих об единосущности как участии Сына и Духа в сущности Отца. Каждое Лицо — Бог по Своей природе, а не по участию в природе Другого» (В. Лосский «По образу и подобию»).

Передача Сущности между Ипостасями подобна световой проекции («сияние славы»). Поэтому принято применять термин «образ». Бог Отец, рождая Сына, отдает (проецирует) в Него образ Своей Сущности. Поэтому Сын является образом Ипостаси Отца: «Иже сый сияние славы и образ ипостаси Отчей» (Евр. 1:3).
Аналогично происходит и с Лицом Святого Духа, когда Он получает Сущность от Ипостаси Сына. Поэтому Святой Дух является образом Ипостаси Сына: «Потому святой Иоанн Дамаскин и говорит, что «Сын есть образ Отца, а образ Сына — Дух». Из этого следует, что третья Ипостась Святой Троицы единственная, не имеющая Своего образа в другом Лице. Дух Святой остается Лицом неявленным, сокровенным, скрывающимся в самом Своем явлении» (В.Н. Лосский).
Третья Ипостась не имеет своего образа в другом Лице, потому что Святой Дух возвращает Сущность Отца в изначальный источник, в Самого же Отца. Отец не может быть образом Самого Себя, т.к. Он и есть первообраз: «В аспекте Божественного проявления ипостаси являются не образами личностного различения, а образами общей природы: Отец открывает Свою природу через Сына, Божественность Сына проявляется в Духе Святом. Поэтому в этом аспекте Божественного проявления можно установить порядок Лиц, который, строго говоря, не следует прилагать к Троичному бытию Самому в Себе, несмотря на «единоначалие» и «причинность» Отца, которые не придают Ему какого-либо первенства над другими ипостасями, ибо Он — Лицо лишь постольку, поскольку Лица — Сын и Дух» (В. Лосский «По образу и подобию»).
«Также все святоотеческие тексты, в которых Сын назван «образом Отца», а Дух — «образом Сына», относятся к проявлению через энергию (в тварном мире, а в божественном через сущность, И.Т.) общего содержания Трех, ибо Сын — не Отец, но Он то, что есть Отец (проекция Отца, И.Т.); Дух Святой — не Сын, но Он то, что есть Сын (проекция Сына, И.Т.)» (В. Лосский «По образу и подобию»).
11. Взаимообмен Жизни

Два ракурса бытия Божественного Ума, продолжают «дело отца» и живут по примеру «любви отчей», отдавая, всё, что у них есть, тому, кто у них есть: «Каждое из Лиц Троицы живет не для Себя Самого, но отдает Себя другим Ипостасям, так что все Три сопребывают в любви друг с другом. Жизнь Божественных Лиц есть взаимопроникновение (perichoresis), так что жизнь одного становится жизнью другого. Таким образом, бытие Бога осуществляется как со-бытие, как любовь, в которой собственное существование личности отождествляется с самоотдачей» (Христос Яннарас «Вера Церкви»).
В результате перекрестного взаимообмена между Второй и Третьей Ипостасями, Сущность и Жизнь возвращаются в Первую Ипостась, являющуюся источником.

«Когда мы говорим о любви во Святой Троице, мы постоянно держим в памяти, что Бог есть дух, и любовь в Боге вся духовна. Отец любит Сына так сильно, что Он весь в Сыне: и Сын любит Отца так сильно, что весь в Отце, и Дух Святой по любви весь в Отце и Сыне. Это Сын Божий засвидетельствовал словами: «Я во Отце и Отец во Мне» (Ин. 14, 10). И Сын во Святом Духе и Святой Дух в Сыне. В Писании говорится, что по воскресении Христос дунул на апостолов и сказал им: «Примите Духа Святого» (Ин. 20, 22). Только то, что имеешь в себе, можешь отдать и другим» (свт. Николай Сербский).
12. Двенадцать граней Божественного Бытия
Единая жизнь единосущной Пресвятой Троицы имеет двенадцать граней Божественного Бытия.

Ипостась Отца
1. Рождением отдает Свою Сущность Сыну.
2. Извождением отдает Свою Жизнь Святому Духу.
3. Принимает от Духа Свою Сущность и владеет ей целиком.
4. Принимает от Сына Свою Жизнь и владеет ей целиком.
Ипостась Сына
1. Получает бытие от Отца, путем рождения всей Сущности Отца.
2. Получает Жизнь Отца от Святого Духа и владеет ей целиком.
3. Отдает целиком всю Сущность Святому Духу.
4. Возвращает целиком всю Жизнь Отцу.
Ипостась Святого Духа
1. Получает бытие от Отца, путем исхождения всей Жизни Отца.
2. Получает Сущность Отца от Сына и владеет ей целиком.
3. Отдает целиком всю Жизнь Сыну.
4. Возвращает целиком всю Сущность Отцу.

Двенадцать граней Бытия Пресвятой Троицы являются лучами троического света, создающими духовно-интеллектуальную проекцию Творения. Проекция имеет структуру куба. Поэтому, в точке начала Мироздания и в точке его завершения находятся кубические структуры. Первой является Бог Слово в состоянии «Агнца, закланного от начала мира». Завершающей является Бог Слово в состоянии кубического Нового Иерусалима, каркас которого состоит из двенадцати системообразующих граней Бытия Пресвятой Троицы: «Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. И измерил он город тростью на двенадцать тысяч стадий; длина и широта и высота его равны» (Откр. 21:16).

13. Парадокс неизменности Отца
«Всякое даяние благое и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены» (Иак. 1:17).
«Бог Троица не есть какое-то застывшее существование, не есть покой, неподвижность, статичность. В Боге полнота жизни, а жизнь есть движение, явление, откровение» (Митрополит Иларион (Алфеев)).
Нюансы догмата о Пресвятой Троице можно излагать бесконечно. Но в реальности, Бог не состоит из множества смысловых элементов. В реальности, Бог — это Единица, живущая Троицей: «Нельзя ни расчленять Троицу, ни допустить, даже в целях удобства изложения, чтобы одно понятие предшествовало другому: «Не успею помыслить о Едином — восклицает святитель Григорий Богослов, — как озаряюсь Тремя. Не успею разделить Трех, как возношусь к Единому. Когда представляется мне Единое из Трех, почитаю сие целым. Оно наполняет мое зрение, а большее убегает от взора. Не могу объять Его величия, чтобы к оставшемуся придать большее. Когда совокупляю в умосозерцании Трех, вижу Единое светило, не умея разде-лить или измерить соединенного света» (протопресвитер Борис Бобринский «Тайна Пресвятой Троицы»).
Принципы Божественной Жизни, раскрываемые через Звездицу, создают крестообразные и ромбовидные структуры. Однако, нельзя допустить, будто во Святой Троице могут быть какие-то траектории, по которым перемещаются Сущность и Жизнь. Используя представленную модель, можно сказать, что вся она является символом Единого Бога Отца. Структура, создаваемая траекториями движения Сущности и Жизни — символом Бога Сына. Движение, осуществляемое всеми Ипостасями — символом Бога Святого Духа.

Таким образом, всё происходящее во Святой Троице, всё происходит в Самом Боге Отце. Поэтому, Он есть Единый Бог Вседержитель, всегда равный Самому Себе: «Бог прост и несложен и весь самому Себе подобен и равен» (св. Ириней).

Изменения, происходящие при рождении Сына и исхождении Святого Духа, не изменяют Ипостась Отца. Всё отдаваемое тут же и возвращается. Несмотря на то, что возвращаемое не есть то, что отдавалось, Отец остается всё тем же, «без тени перемены», т.к. и отдает, и получает обратно всегда Самого Себя. И Отец постоянно воскресает полностью обновленный. И Ипостаси Сына со Святым Духом постоянно воскресают полностью обновленные. И вся Пресвятая Троица пребывает в покое, любви и сиянии славы Божественного Воскресения. Таково бытие Пресвятой Троицы. Бог есть не только Любовь, но и Воскресение. Аминь.
«Тот, кто познает тайну Креста и гроба, познает также существенный смысл всех вещей… Тот, кто проникнет еще глубже Креста и гроба, и будет посвящен в тайну Воскресения, познает конечную цель, ради которой Бог создал все вещи изначала» (преп. Максим Исповедник).

